что они находятся вне законов эстетики. Наоборот, эксперимент как элемент поиска, элемент творческого процесса воплощается не в самом себе, но в произведении, созданию которого он служит. Он не образует автономной, самодовлеющей ценности, а лишь обогащает художественное целое, которое, заключая в себе новые элементы, тем более может и должно явиться предметом дискуссии. Это касается не только булькания «water music» и разрушенных роялей и зеркал, но и понятия эксперимента вообще. (При случае я хотел бы заверить Почея, что ни нидерландцы, ни вирджиналисты, на которых он ссылается, ни вообще кто-либо из великих мастеров минувших столетий, не были экспериментаторами в том смысле, в каком сегодня повсеместно употребляется это слово. Они были новаторами, а это ни в коем случае не одно и то же!)
И второе: следовало бы более точно разграничить две совсем разные области — музыкальное искусство и мир неорганизованных звуков. Ибо невозможно вести сколько-нибудь серьезную дискуссию, пребывая в условиях хаоса и крайнего индетерминизма.
Высказывания Кейджа о сущности музыки, поддерживаемые Почеем, вызывают у меня некоторые ассоциации со средневековой «гармонией сфер», причем единственную существенную разницу составляет тот факт, что для Кейджа этой «вечной музыкой» является, к примеру, уличный шум. Недоразумение заключается попросту в неверной номенклатуре. Отголоски уличного движения не есть музыка, хотя они акустически несомненно принадлежат к категории звуковых явлений, точно так же, как не имеет никакого отношения к изобразительному искусству, скажем, явно «зримые» и наглядные белые шашки пешеходных дорожек на мостовой. Конечно, я охотно допускаю, что воображение артиста может вдохновляться и по-своему переосмыслять алеаторический комплекс всевозможных скрежетов, шорохов, стуков и т. п. Однако задачей истинного творца всегда является не индукция, а селекция, не хаотическое смешение элементов, а их осмысленный отбор. Музыку нельзя слушать так же, как слушают голоса природы или уличного движения; по-разному смотрят на скульптуру и на горный хребет. По Кейджу, искусство — это материя вообще (субстанция), материя же — искусство. Отсюда отождествление с музыкой всего, что воспринимается слухом. Но не всякий комплекс акустических явлений есть музыка. Кажется, что все эти с детской непосредственностью провоцируемые скрежеты бутылки по зеркалу, бульканье воды в тазу, поиск электроакустических установок попросту пытаются ликвидировать различие между материальностью окружающих нас явлений и специфическими средствами музыкального искусства. Но для доказательства этой истины, право же, не стоило возводить столь громоздких и запутанных теоретических построений, как это делает Почей.
Критерием истинного искусства, разграничивающим его с «материей вообще», является форма. Любое произведение искусства независимо от своего внутреннего содержания представляет собой определенную законченную во времени или пространстве конструкцию; любое имеет начало и конец, и этим, среди прочего, отличается от бесконечной и безграничной материальной субстанции.
Конечно, можно построить немало эффектных спекуляций на тему «вечного», «бесконечного» искусства. Можно написать немало красивых фраз о «свободном искусстве». Почей, например, тоскует по музыке, которая «освобождена от тяжести прошлого и лишена страха перед будущим». Красивая метафора, однако мне она напоминает беззаботное счастье, которое должен испытывать... покойник: он тоже свободен от тяжести прошлого и не дрожит перед будущим. Я же, напротив, опасаюсь, как бы эта гипотетическая «вечная, бессмертная, вездесущая музыка» не превратила нашу действительную музыкальную жизнь в некий мрачный Некрополь.
Другими непременными критериями искусства наряду с формой являются критерии эстетические. Разумеется, эти эстетические критерии могут быть весьма дифференцированы, но случайное пользование любой произвольной эстетической концепцией безусловно равносильно отсутствию какой бы то ни было. А ведь без этого фактора, так же как и без формы, не может быть и речи ни о каком произведении искусства.
Итак, не музыка находится «за пределами добра и зла», а те звуковые эксперименты, которые не контролируются интеллектом композитора, а отданы на волю случая. Конечно, нет большого преступления в том, чтобы в силу того или иного случайного импульса выпить стакан воды или даже в знак неосознанного протеста пнуть ногой контрабас. Но... не станем пытаться повернуть историю вспять. Будем сочинять, но не экспериментировать; будем творцами, а не индукторами; будем слушать музыку, вместо того чтобы участвовать в «осуществлении творческого процесса»...
Переводы с польского Г. Блейза
Австрия
Е. Грошева
ГОРОД ЖИВЫХ ТРАДИЦИЙ
II
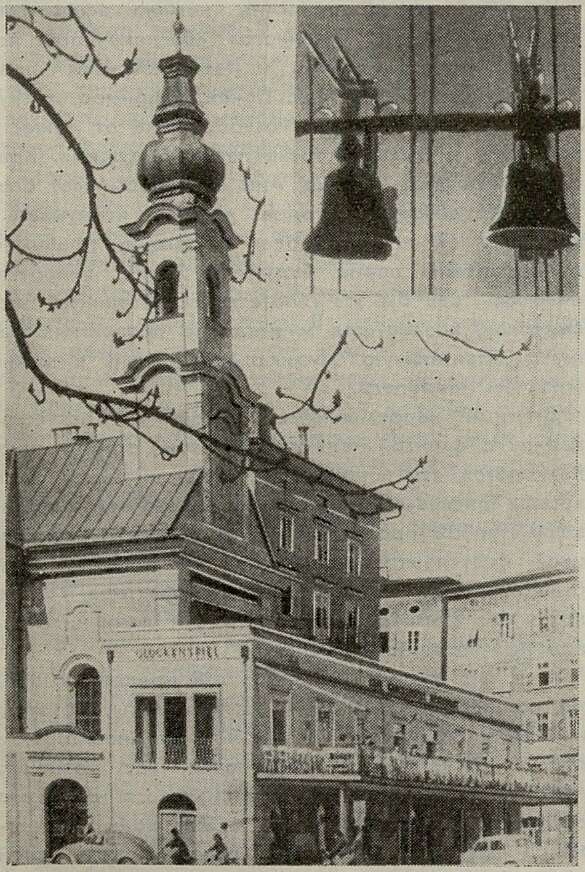
Зальцбург «Глокеншпиль»
В дни, когда этот номер выйдет в свет, будет уже в разгаре Зальцбургский фестиваль. На этот раз традиционный праздник музыки на родине Моцарта во многом проходит под знаком русского искусства. На страницах журнала уже сообщалось, что центральная постановка фестиваля, открывающая его, — «Борис Годунов» Мусоргского, который будет показан шесть раз, то есть более, чем какое-либо другое произведение, включенное в программу празднества. Режиссер и дирижер спектакля — Герберт фон Караян. Опера идет на русском языке. Все это придает постановке особый интерес и занимает умы многих австрийских любителей музыки.
Уже в феврале была ощутима деятельная подготовка этого события. Осматривая новое здание Фестшпильхауза, вмещающее около двух с половиной тысяч зрителей, я вдруг на сцене буквально наткнулась на зеленоватую, словно обросшую мхом стену кельи Пимена с крохотным решетчатым оконцем и блещущий золотом иконостас с ликами святых. Мне рассказали, что художники и мастерские театра готовят для «Годунова» восемьсот костюмов, что численность хористов будет доведена до двухсот человек (для чего хор Венской оперы объединится с хором загребской сцены), что Караян внимательно изучает материалы, так или иначе связанные с драмой Мусоргского, вплоть до известного советского фильма с участием А. Пирогова, И. Козловского, Г. Нэлеппа, Н. Ханаева. Н. Гяуров стал готовиться к роли Бориса почти за год, еще будучи в Москве, партию Самозванца будет петь Д. Узунов, Юродивого — А. Масленников... Вряд ли можно сомневаться в том, что идея постановки «Бориса Годунова» в Зальцбурге родилась у Караяна после того, как он увидел оперу в Москве во время гастролей «Ла Скала», и дирижер стал готовиться к ее воспроизведению со свойственной ему обстоятельностью. Те, кто слышал «караяновскую» «Богему», особенно поймут волнение многих и многих любителей оперы, в том числе австрийцев, в ожидании новой, столь грандиозной работы.
Интерес к шедевру русской оперной классики, бесспорно, обостряется еще тем, что Австрия вновь увидит за пультом Караяна. Прошло уже больше года, как Караян покинул Венскую оперу, разойдясь в своих позициях с ее руководителями, а страсти по этому поводу все еще бушуют. Венцы, вплоть до крупных деятелей министерств культуры и просвещения, не могут простить дирекции театра, что она рассталась с крупнейшим оперным дирижером современности. В этом, как я поняла, помимо любви и уважения к Караяну как замечательному художнику, играет роль и опасение, что без него Венская опера утратит свой мировой престиж. Ведь известно, что, пока с нею был связан Караян, Вена являлась своего рода Меккой, куда стекались любители
_________
Окончание. Начало см. № 7, 1965.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Праздник песни 5
- О путях развития языка современной музыки 8
- Этапы большого пути 23
- Поговорим откровенно 29
- Музыкальная весна 34
- Рисунок 35
- Дорогой дерзаний 36
- Становление жанра 42
- Бюрократ и смерть 46
- Младшая сестра 48
- На пороге искусства 51
- Встреча с народным искусством 57
- Литовский камерный 60
- Талант и воля 61
- «Ажуолюкас» 62
- О сыгранном 64
- В оперном театре 66
- Всегда в поисках 67
- Ведущий хор республики 67
- Им помогает библиотека 68
- О жанрах, формах и творческом поиске 69
- Встречи с Глазуновым 72
- Моцарт живет во всех нас 87
- Из автобиографии 89
- Сатира в опере 96
- Спустя восемнадцать лет 100
- Гордость художника 104
- В концертных залах 110
- Новая музыка в эфире 120
- Фильм о балерине 121
- В Узбекистане 126
- У композиторов Туркмении 134
- Любомир Пипков 137
- Живое творчество или таинство «эксперимента» 142
- Город живых традиций 146
- На музыкальной орбите 153
- Хроника 159



