рийными театрами, в частности, например, саратовским или свердловским, но и там скромность средств воплощения не мешала зрителям со всей глубиной ощутить трагический пафос и красоту музыки Верди. Поэтому так огорчил венский спектакль.
Единственно, кого было интересно слушать, кто запомнился тогда, — это Альдо Протти в роли Яго. Его образ почти так же не был «сделан» режиссером, как и остальные. И все же перед вами был Яго — немного неуклюжий, коренастый солдафон, на вид даже простецки добродушный, а сам себе на уме, хитрый и злопамятный, настойчивый в достижении цели, откровенно, во всю ширь своей мужицкой натуры, торжествующий над распростертым телом Отелло в финале третьего акта. Голос Протти сильный, хотя и не очень гибкий; но главное, что привлекало в его исполнении, — это мастерство декламации, выражавшееся в предельной простоте и естественности произнесения «вокального» слова, в отчетливости дикции. И опять чувствовалось, что это родная певцу музыкальная стихия, что образ Яго — один из главных в его репертуаре и по рисунку он везде такой же, на какой бы сцене и с какими бы партнерами артист ни выступал. В этом и сила таких певцов-гастролеров, как Протти, но в этом и их ограниченность. Разъезжая по всему миру, переходя со сцены на сцену, из одного спектакля в другой, они всегда великолепны, всегда блистают отточенным мастерством, но и всегда одинаковы, являя, так сказать, образцы «мирового стандарта» в оперном искусстве.
В Вене мне еще раз довелось познакомиться с подобным искусством, на этот раз в вагнеровском репертуаре. «Тристан и Изольда» не идет у нас по крайней мере уже лет пятьдесят. Все более редко выпадает и западным зрителям счастье встречи с этой оперой.
— Вагнеровские голоса вымирают, — сказал мне директор Венской оперы г-н Гильберт, — только две Изольды остались на свете: Биргит Нильссон и Астрид Фарнай...
Но все же я услышала на венской сцене «Тристана» с Гансом Байрером и Астрид Фарнай в заглавных партиях и опять... по постановке Караяна. И снова мне стало казаться, что вместе с дирижером из этого спектакля ушла и его душа, его смысл... Но это ощущение не было столь интенсивным, как в «Отелло», потому что, впервые видя эту оперу на сцене, я стремилась как можно активнее воспринимать ее музыку, за что и была вознаграждена, особенно в третьем акте. Когда умирающий Тристан в лихорадочном бреду призывает Изольду, — в оркестре бушует такая стихия страсти, такое неистовство чувства, что сразу прощаешь «божественные длинноты» предыдущих актов. А сколько красоты в перекличке солирующего за сценой английского рожка с оркестром и как эта краска подчеркивает реальность действия! Да и сам Байрер, певец с монументально неподвижной фигурой и голосом не столь выразительным, сколь выносливым, здесь вдруг обрел и в пении и даже в мимике новые, казалось, несвойственные ему ранее выразительные краски, — его чувства стали более динамичны, экспрессивны. И конечно, упоительно звучал оркестр Венской филармонии под управлением Генриха Хольрайзера. Правда, он так же звучал с самого начала спектакля, но между ним и певцами не было той внутренней
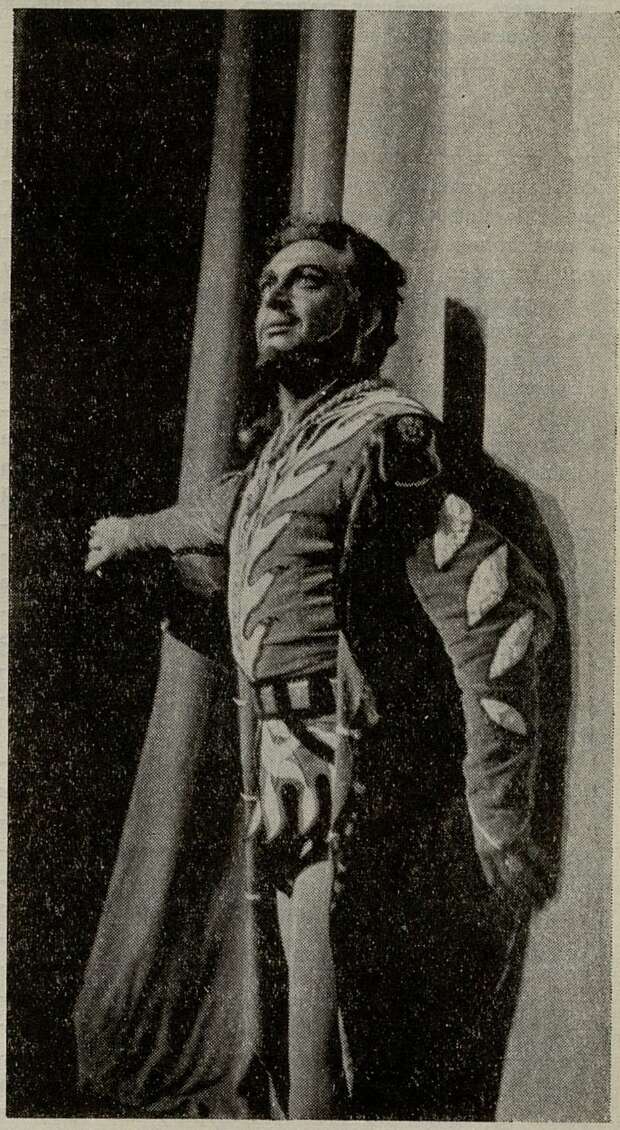
Отелло — Д. Узунов
связи, которая вдруг так сильно обнаружилась в заключительном акте. Может быть, в холодке двух первых актов повинны их «бесконечность», может быть, дали знать о себе система «стандарта» и отсутствие той большой творческой атмосферы, которую приносит с собою на эстраду и на оперные подмостки Караян, а может быть, просто сказалась субъективность восприятия... Фарнай при всем своем мастерстве не поразила ни голосом, несколько уже тускловатым по тембру, ни экспрессией. Статичность действия усилилась условностью постановки. В грандиозной по длительности дуэтной сцене второго акта были высвечены только неподвижные фигуры Тристана и Изольды. Но, понимая, что эта опера Вагнера теперь ценнейшая редкость на любой сцене, я чувствовала себя счастливой.
И вот другая вагнеровская опера — «Летучий голландец» на той же сцене, под управлением Роберта Хегера. Я уже упоминала о причине, по которой оркестр в этот вечер играл слабее. Но в целом спектакль оказался очень стройным, цельным, хорошо слаженным, сильным по певческому составу. Превосходен был главный герой, Отто Винер, — хороший певец, прекрасно чувствующий романтику вагнеровского образа. Сенту пела молодая певица Аня Силья, новая звезда, недавно взошедшая на вокальном небосклоне. У нее хорошее сопрано с прекрасными верхами, хотя, на мой взгляд, ему недостает душевности и теплоты тембра, что, возможно, связано со школой. Во всяком случае пела она сильно, свободно, с увлечением, точно передавая неотрешимую силу тяготеющего над ее героиней почти мистического чувства... Выверенно по интонации и насыщенно звучали хоровые сцены. Но, пожалуй, больше всего обрадовала работа режиссера (Адольф Ротт) и художника (Роберт Каутский), сохранивших в общей атмосфере спектакля несколько сумрачный, жутковатый колорит старинного предания, рожденного народной фантазией и суровой романтикой моря.
Вполне понятно, что память обратилась к спектаклю Большого театра, где прелесть народной поэзии оказалась принесенной в жертву вульгарной социологии, а романтика обернулась театральной бутафорией. И эти почти «взаправдашные» по своим масштабам корабли, и Голландец, быстро меняющий под прикрытием камня свои красочные отрепья на вполне респектабельный сюртук, и подчеркнутая буржуазность дома Даланда, отца Сенты, не имеют ничего общего ни с романтической легендой о моряке-скитальце, ни с музыкой Вагнера. Где еще, к примеру, как ни в рыбацкой хижине, может звучать такой народный по своему колориту хор девушек за прялками, которым начинается второй акт? И как нелеп этот хор и эти прялки в богатых аппартаментах, раскинувшихся во всю сцену Большого театра! Я рада, что неприятие такого решения нашло свое подтверждение в венской постановке, не блещущей особыми «новациями», но и не напоминающей о рутине. Когда открывается занавес первого акта и на узкой полоске сцены, окутанной густым туманом, обращенная к зрителю кучка рыбаков в блестящей от воды одежде с напряжением тянет канат, сразу создается правдивая и вместе с тем суровая атмосфера жизни народа. Зритель понимает, что этот туманный, сырой край, где седое море яростно бьется о голые скалы, словно требуя новых и новых жертв, может стать родиной преданий о кораблях-призраках, о дерзких альбатросах, проклятых богом, что здесь может возникнуть тема искупления, самозабвенной любви. Она горит в сердце юной Сенты, в котором властует лишь одна фанатичная страсть. В краю опасностей, в краю трудной, полной лишений жизни нередко рождаются такие характеры, готовые к испытаниям, к самопожертвованию. И это превосходно передавала Силья. Ее Сента — бедная девушка, живущая лишь одной мечтой, навеянной бытом моря, народными поверьями. Ее
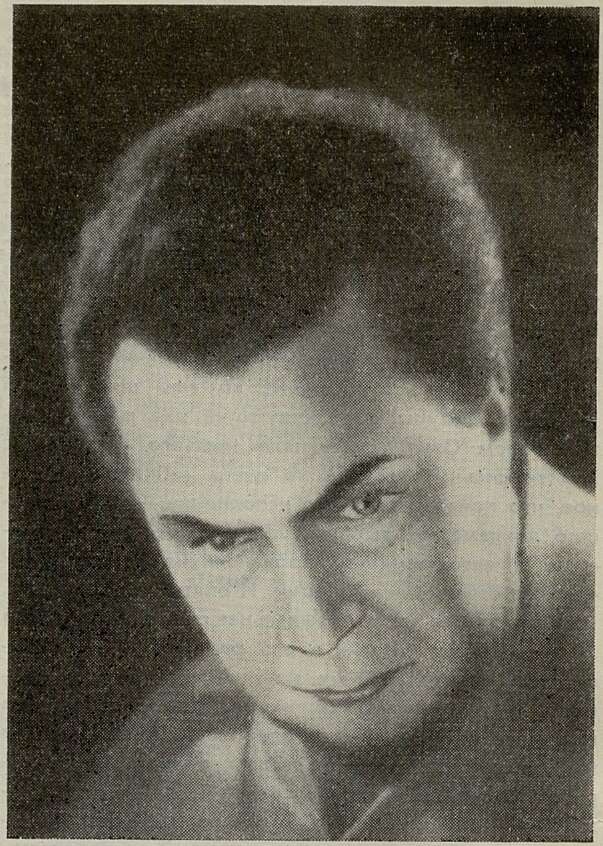
Голландец — Отто Винер
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Праздник песни 5
- О путях развития языка современной музыки 8
- Этапы большого пути 23
- Поговорим откровенно 29
- Музыкальная весна 34
- Рисунок 35
- Дорогой дерзаний 36
- Становление жанра 42
- Бюрократ и смерть 46
- Младшая сестра 48
- На пороге искусства 51
- Встреча с народным искусством 57
- Литовский камерный 60
- Талант и воля 61
- «Ажуолюкас» 62
- О сыгранном 64
- В оперном театре 66
- Всегда в поисках 67
- Ведущий хор республики 67
- Им помогает библиотека 68
- О жанрах, формах и творческом поиске 69
- Встречи с Глазуновым 72
- Моцарт живет во всех нас 87
- Из автобиографии 89
- Сатира в опере 96
- Спустя восемнадцать лет 100
- Гордость художника 104
- В концертных залах 110
- Новая музыка в эфире 120
- Фильм о балерине 121
- В Узбекистане 126
- У композиторов Туркмении 134
- Любомир Пипков 137
- Живое творчество или таинство «эксперимента» 142
- Город живых традиций 146
- На музыкальной орбите 153
- Хроника 159



