произведениях, положительные герои удались меньше. Местные корреспонденты, бледные и невыразительные, теряются среди «роскошного» букета «чертополоха». По воле авторов, они всего лишь пассивные наблюдатели. А трудная задача выявления положительного начала, противостоящего мещанскому болоту, целиком возложена на плечи сантехника Чуркина. Зрителям так же, как и авторам, остается лишь верить, что Почесухина все-таки снимут.
К сожалению, из ситуаций и текста оперы довольно трудно установить время действия. С одинаковой степенью его можно отнести как к эпохе Остапа Бендера, так и к сороковым или пятидесятым годам. Лишь слово «мотороллер» намекает на то, что вся эта история произошла совсем недавно.
Естественно, что все сильные и слабые стороны либретто отразились в музыке оперы.
Наибольшей удачей композитора являются яркие и точные интонационные характеристики отрицательных персонажей. Тем более важно подчеркнуть то, что Левитин обратился к мелодическим, а не ритмическим, тембровым или инструментальным характеристикам (которые дают порой весьма ощутимый, но внешний эффект). Интонации эти добыты тактичным и умным отбором излюбленных напевов дореволюционного и, что греха таить, современного мещанина. На этой основе созданы новые мелодии и попевки, необычайно образные и едкие. Первое место среди них по праву принадлежит излюбленной фразе Почесухина, лицемерно предлагающего посетителям высказать «все, что наболе-е-ло, все, что накипе-е-ло!» В незамысловатом кратком мотиве, многократно звучащем по ходу действия, метко выражена ни к чему не обязывающая фарисейская «забота о человеке». И мелодия этой лейтпопевки буквально срастается со словами.
У главного персонажа оперы — Почесухина — есть еще одна музыкальная тема, предназначенная, по всем признакам, выполнять роль его лейтмотива. Это присказка: «Вот ка-ки-е пи-рож-ки!» Но, к сожалению, в интонационном отношении она менее ярка.
Меткую музыкальную характеристику дает композитор Вечеринкину. Интересна его каватина («Кирилл Спиридоныч, поверьте...») — предчувствие приближающегося возмездия за все содеянные им темные делишки. Происхождение основной попевки этой каватины относится, пожалуй, к прошлому веку. По интонации ее первый четырехтакт напоминает начало романса Чайковского «Снова, как прежде, один». Но то, что у Чайков-
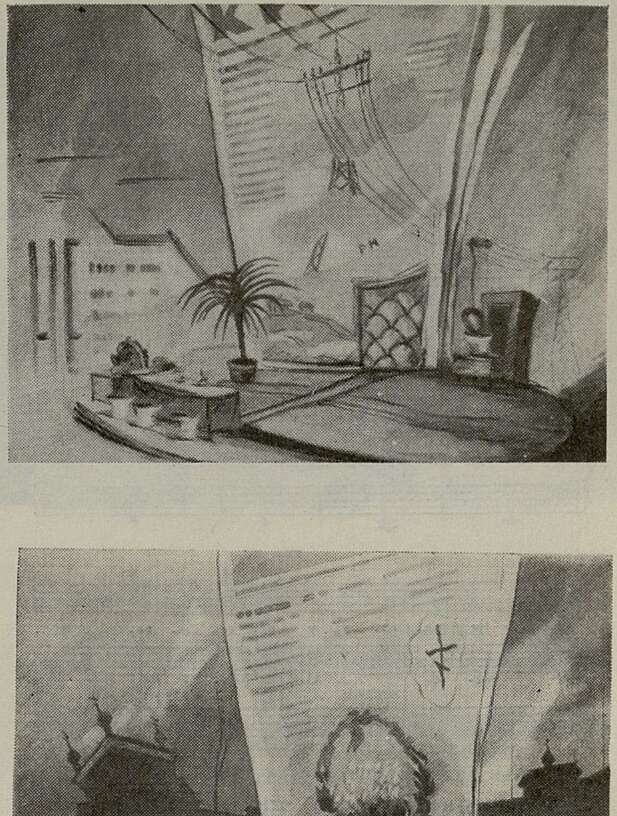
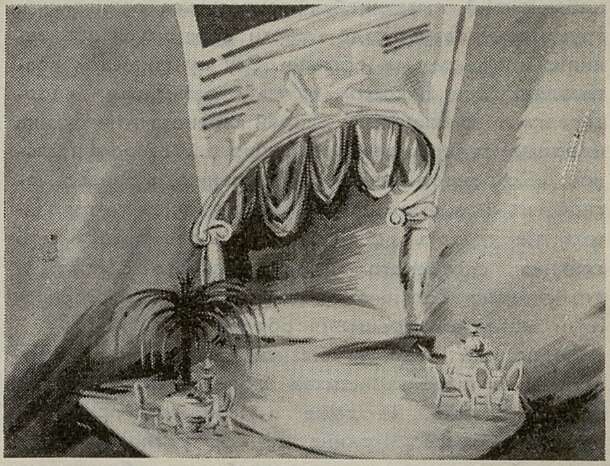
Декорации второй, третьей и пятой картин
ского звучит трагично, здесь нарочито превращено в нудное шарманочное нытье:
Пример
К удачам композитора относятся и дуэт кладбищенских старушек, воскрешающий в памяти интонации времен нэпа, и патетические вопли толкача, выбивающего у Почесухина «Тру-у-бы! Тру-у-бы!», и молчалинские интонации угождающего начальству Топтунова. Выразителен Почесухин со своим наигранно-бодрым тоном во время беседы с молодым специалистом Чуркиным.
Эффектны и предельно сатирически отточены «оперные» куплеты Секретарши («Ревную к законной жене!»), пытающейся понравиться ленивому и трусливому патрону, до смерти боящемуся обвинения в элементах «аморалки». Эту кунсткамеру возглавляет отец Никодим, вкупе с остальными «просителями» томящийся у дверей кабинета Почесухина и время от времени восклицающий сакраментальное: «Бю-рократи-и-зм!» К сожалению, в эпизодической, но немаловажной партии Анфисы композитору не удалось достигнуть столь же органичного слияния словесного и музыкального образа. И это создало большие трудности для режиссерского и актерского решения образа.
Недостатки либретто Левитин не сумел преодолеть и в характеристиках молодежи, прессы и общественности. И даже в наиболее привлекательном образе Чуркина не все удалось. Когда молодой сантехник, введенный в заблуждение сочувственным тоном Почесухина, с увлечением излагает ему свои планы, штампованный «оптимизм» музыки вносит элемент неискренности, фальши и в образ, и в эпизод оперы.
Как мы уже говорили, композитор обращается к интонациям самых различных периодов — от второй половины XIX века и почти вплоть до наших дней. Но это не создает ощущения разностильности. Автор как бы подчеркивает, что мещанство меняет только обличье, но сущность его не меняется.
Опера Левитина и Михалкова несомненно благодарный сценический материал. И именно это заставляет считать исполнителей, театр третьим соавтором оперы.
На пути коллектива Куйбышевского театра стояло два препятствия: сценическое воплощение характеров более привычных в драматическом, нежели в музыкальном, театре и освоение современного музыкального языка.
Оперная труппа театра справилась с этими трудностями. Спектакль получился живой, веселый, органичный. Режиссер Г. Геловани деликатно и чутко отнесся к произведению. Он нигде не стремится навязать авторам свою волю и во что бы то ни стало показать собственный «режиссерский почерк», направив все внимание на достижение художественного равновесия между конкретными бытовыми деталями и обобщающей заостренностью общего «тона» спектакля. И это ему удалось.
В тесном единстве с режиссером работал и художник М. Мурзин. Его декорации, словно сошедшие со страниц «Крокодила», — настоящая находка. Также метко и лаконично решены детали сценической бутафории и костюмы, подчеркивающие одновременно достоверность происходящего и его анекдотичность.
Самой искренней похвалы заслуживает работа, проделанная дирижером С. Бергольцем.
К числу наибольших актерских удач относятся образы Вечеринкина у А. Бельмесова и Почесухина у М. Дундука. Отказ от внешних эффектов, чувство меры и одновременно беспощадное разоблачение своих «героев» характерны для этих исполнителей. Особенно хороша в интерпретации этих артистов сцена в кладбищенской конторе, кстати, одна из лучших в опере. По чувству ансамбля, по точности игры и ощущению сатирического подтекста музыки это просто отличный «концертный» номер.
Темпераментны и точны в исполнении А. Серпер и Т. Волковой жена Почесухина и Секретарша. Типичны и убедительны два молодых героя пьесы: заведующий парикмахерской Топтунов (П. Конышев) и сантехник Чуркин (Б. Маргин). В их
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Праздник песни 5
- О путях развития языка современной музыки 8
- Этапы большого пути 23
- Поговорим откровенно 29
- Музыкальная весна 34
- Рисунок 35
- Дорогой дерзаний 36
- Становление жанра 42
- Бюрократ и смерть 46
- Младшая сестра 48
- На пороге искусства 51
- Встреча с народным искусством 57
- Литовский камерный 60
- Талант и воля 61
- «Ажуолюкас» 62
- О сыгранном 64
- В оперном театре 66
- Всегда в поисках 67
- Ведущий хор республики 67
- Им помогает библиотека 68
- О жанрах, формах и творческом поиске 69
- Встречи с Глазуновым 72
- Моцарт живет во всех нас 87
- Из автобиографии 89
- Сатира в опере 96
- Спустя восемнадцать лет 100
- Гордость художника 104
- В концертных залах 110
- Новая музыка в эфире 120
- Фильм о балерине 121
- В Узбекистане 126
- У композиторов Туркмении 134
- Любомир Пипков 137
- Живое творчество или таинство «эксперимента» 142
- Город живых традиций 146
- На музыкальной орбите 153
- Хроника 159



