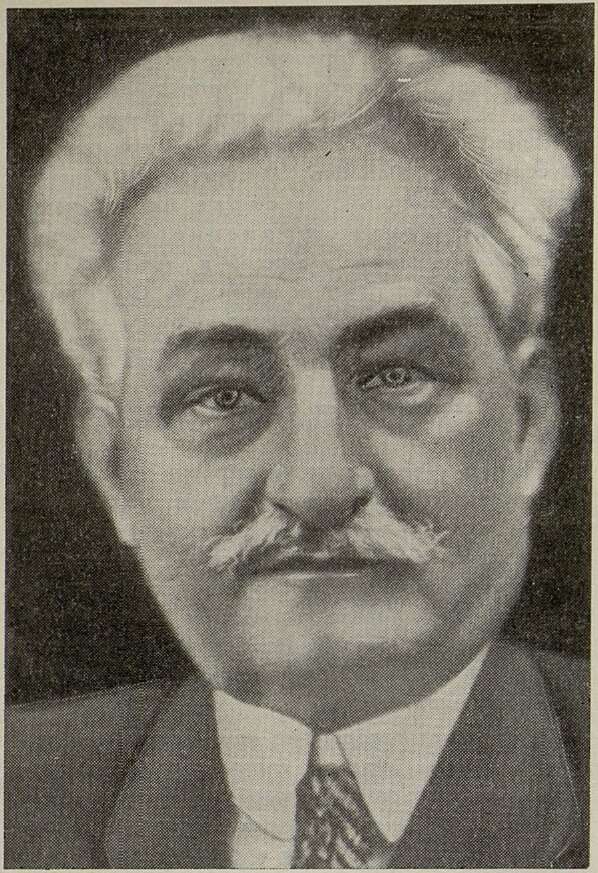
вестного композитора и дирижера Павла Кржижковского — замечательного музыканта и убежденного патриота. Учитель привил юноше не только профессиональные навыки и любовь к чешско-моравскому фольклору, но и воспитал его гражданские чувства: веру в свой народ, братскую солидарность с другими славянскими народами, стремление внести свой вклад в создание национальной культуры.
Разумеется, обстановка общественного подъема 1860-х — 1870-х годов, развитие чешской литературы, рождение национальной оперы в творчестве Сметаны, образование различных музыкально-просветительных и хоровых обществ — все это не могло не повлиять в свою очередь на взгляды и убеждения молодого музыканта, в то время (1874–1876) студента Пражской Высшей органной школы. Несомненную роль в формировании творческой личности Яначека сыграло и его увлечение русским искусством и особенно литературой, которую энергично переводили на чешский язык и печатали в журналах виднейшие деятели национального Просвещения (так называемые «будители»).
Мимо глубокого творческого интереса Яначека к русской музыке и несомненного влияния на него эстетических принципов «Могучей кучки» не может пройти ни один исследователь. Виднейший знаток Яначека, чешский музыковед Вл. Гельферт, прямо указывает на два источника, определившие черты его музыкального стиля: во-первых, моравская песня и народная речь и, с другой стороны, влияние музыки Бородина, Римского-Корсакова и в особенности Мусоргского. Любопытно, что ни в 80-е годы, когда Яначек собирал моравские песни, ни в 90-е, когда с особым увлечением записывал нотами интонации народной речи, он еще не знал Мусоргского и не подозревал, что за двадцать лет до него совершенно аналогичным образом работал русский композитор1.
Знакомство Яначека с творческими принципами автора «Бориса Годунова» лишь укрепило его убежденность в правильности собственного пути. В самые мрачные годы непризнания, травли и тяжелых невзгод, последовавшие в жизни Яначека после брненской постановки «Ее падчерицы» (1904), моравский мастер, окруженный непониманием отечественной (особенно пражской) музыкальной среды, находил моральную поддержку и опору в русском искусстве.
«В чешской музыке, — пишет Вл. Гельферт, — личность Яначека означает совершенно новую ориентацию. В то время как Сметана, Дворжак и остальные композиторы вокруг них реагировали каждый по-своему на западноевропейские музыкальные и культурные течения, взгляд Яначека в период его творческого созревания был обращен, с одной стороны, на его родной край, а с другой — более на восток, на русскую музыку и русскую культуру»2.
Первые произведения Яначека («Сюита» и «Идиллия» для струнного оркестра), написанные еще в 70-е годы, несут на себе печать романти-
_________
1 «...Какую ли речь ни услышу, кто бы ни говорил (главное, что бы ни говорил), — писал Мусоргский в 1868 году, — уж у меня в мозгах работается музыкальное изложение такой речи» (М. П. Мусоргский. Письма и документы. Музгиз, М. — Л., 1932, стр. 146).
Интересно сравнить с этим слова Яначека: «...Если ко мне кто-либо обращался, я, может быть, и не понимал его слов, но интонация! Я тотчас знал, что в ней заключается, я знал, как он чувствует, лжет ли он, взволнован ли он... я это слышал...» (из интервью газете «Literární svět», Прага, от 8 марта 1928 г.).
2 Владимир Гельферт. Полстолетия чешской музыки в исторической перспективе. Сборник «Чехословацкая музыка», изд. Орбис, Прага, 1946, стр. 36. 101
ческих влияний и прямого воздействия горячо им любимого Дворжака. Важнейшим произведением раннего периода явилась опера «Шарка» (по драме Юлиуса Зейера), над которой композитор работал в 1887–88 годах, используя широко распространенную в Чехословакии тему национальной героической легенды о «девичьей войне» (к этому сюжету обращались и другие авторы — симфоническая поэма Сметаны, опера Фибиха). Здесь Яначек остается еще «в общем русле» — в смысле выбора сюжета и его трактовки. Тем не менее музыка этой первой оперы уже со всей убедительностью говорит о большом драматургическом даровании автора. Она отличается напряженностью и «взрывчатой» силой, вполне отвечающими бурным страстям героев. Особенно удались композитору хоровые сцены в монументальном третьем акте, любовный дуэт из второго. В опере несомненно прослеживаются влияния Дворжака и отчасти сметановской «Либуше», а романтический накал страстей и обращение к глубокой древности вызывают параллель с миром вагнеровских опер.
Поворот в творческом развитии Яначека ознаменовала известная оркестровая сюита «Лашские танцы» (1888) — первый шаг на пути поисков собственной творческой индивидуальности. И вот типичнейшая для Яначека черта: свое «я» он начинает искать у истоков народного искусства.
Создание второй оперы совпадает с увлеченной работой Яначека над моравским фольклором. Пусть «Начало романа» (по рассказу Габриэлы Прейссовой, 1891) — еще сочинение робкое и несовершенное, пусть на нем лежит еще печать сметановских «деревенских идиллий», в музыке его уже делается попытка открыть неведомую миру оперного искусства страну — Моравию.
Этой цели блестяще достигает Яначек в своей третьей опере, смелой, реформаторской, решительно устремленной «к новым берегам» — «Ее падчерице» (по драме Габриэлы Прейссовой, 1894–1903), раскрывшей для искусства новый мир не только музыки, но и человеческой жизни1.
«Есть произведения, которые требуют долгих лет работы. Это оперы. Они дают возможность лучше всего познать народ, каков он есть»1. В этих словах Яначека — целая программа, отчетливые эстетические взгляды художника, очень характерные, кстати, именно для оперы «Ее падчерица» («Енуфа») и снова вызывающие аналогию с творческими принципами Мусоргского. Подобно Мусоргскому, Яначек идет от выразительности слова, от музыкального претворения прозаической речи к декламационности и затем — к мелодике, вырастающей из речевых интонаций. Он говорит даже о возможности создания «нотного словаря живого чешского языка», увлекается проблемой гибкой, подвижной связи между напевной речью и мелодическим складом моравской народной песни.
«То, что народные песни выросли из слова, показывает своеобразие их ритмов, которые не всегда удается вместить в рамки единого такта, — писал Яначек. — Ритмы песен с их прямо-таки непредвиденным богатством можно привести в порядок только с помощью слова. В моравской песне из-за особенностей ее ритмики невозможно менять слова при обработке вокальной мелодии»2.
Яначек идет совершенно самостоятельным путем в поисках «правды спетого слова» и превращения интонаций «речевой мелодии» в основу всей музыкальной ткани оперного произведения, как вокальной, так и оркестровой. В «Ее падчерице» немало эпизодов, когда «словесные мотивы», прозвучав в голосе с определенным словом или фразой текста, переходят затем в оркестр, иногда повторяясь по нескольку раз, — музыка подчеркивает интонацию, имеющую наиболее важное смысловое значение.
Сочетая использование и оркестровое развитие «словесных мотивов», лейтмотивов, лейттембров, лейтгармоний, мотивов-воспоминаний с ладовым богатством моравского музыкального фольклора и тонким, психологически метким воплощением человеческой речи, Яначек создает остро экспрессивную, насыщенную подлинным драматизмом оперную партитуру.
Но если мы много говорим о «словесных мотивах», о коротких возгласах и интонациях, подслушанных композитором в самой жизни, это не значит, что он не уделял внимания широкому мелодическому пению. Напротив, развитая мелодика вокальных партий «Ее падчерицы», особенно в лирических сценах или драматических
_________
1 Правда, эта опера стала широко известной и создала композитору славу, вышедшую далеко за пределы Чехословакии, уже после первой мировой войны. В 1904 году она не была оценена окружающими.
1 Я. Шеда. Леош Яначек. Изд. Орбис, Прага, 1960, стр. 49.
2 «Janáček in Brief en und Erinnerungen». Изд. Артия, Прага, 1955, тср. 62.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 8
- На новые рубежи! 9
- Песня рождается в народе 14
- Северной Осетии — 40 лет 15
- Внимание ритму! 24
- На новую ступень 30
- Право на поиск 34
- Добрая инициатива 40
- Из архива М. Е. Пятницкого 43
- Признательность художнику 49
- Святослав Кнушевицкий 50
- У современницы Стасова 56
- Ученик Комитаса 61
- Работая с Бартоком... 63
- Москва — Братск 66
- «Катерина» 68
- Мастер болгарской музыки 69
- Духовой оркестр 70
- Песни Шуберта 70
- Письма из городов. Из Киева 71
- Письма из городов. Из Горького 71
- Из Тбилиси. Грузинский камерный оркестр 72
- Письма из городов. Из Тбилиси. Новые фортепианные произведения 72
- Письма из городов. Из Тбилиси. «Реквием» Моцарта 73
- Певец одноэтажной Америки 73
- Возрожденные традиции 75
- Знакомство обнадеживает! 77
- Музыка будущего 79
- Путешествие в прошлое 90
- Несколько слов об авторе 96
- О чем рассказала музыка 97
- Еще год 101
- В московских лекториях 103
- Из опыта ленинградцев 106
- Об оперном Яначеке 108
- Новые ключи к старинной музыке 117
- Посланцы польского фольклора 122
- На польской земле 125
- Искания художника-новатора 138
- Книга о польском классике 141
- Е. А. Бекман-Щербина. Мои воспоминания 144
- Библиография музыкальной библиографии 144
- Новые записи 145
- Наши юбиляры. С. С. Туликов 146
- Наши юбиляры. М. А. Гринберг 147
- Наши юбиляры. Г. А. Поляновский 148
- В смешном ладу 149
- Когда опущен занавес 152
- На сцене 1917-й 155
- Ташкентская весна 157
- Они приняты в Союз 157
- У композиторов-горьковчан 158
- Вести из Кузбасса. Даешь абонементы 159
- Вести из Кузбасса. Ребята хотят учиться музыке 159
- Вести из Кузбасса. Звездочка над Киселевском 160
- Международный конгресс этнографов 161
- Хор Соколова в Киеве 162
- Из редких фотографий 162
- Обаяние таланта 163
- Первый звуковой… 164
- Премьеры. Тбилиси, Казань, Челябинск 164
- «Страна Оркестрия» 165
- Школе — 20 лет 166
- [Вот уже более десяти лет Илья Михайлович Миський…] 166
- Дом грампластинок или оптовая база? 167
- Идею убило равнодушие 167
- Памяти ушедших. Виллем Капп 169
- Памяти ушедших. Л. М. Адамов 169



