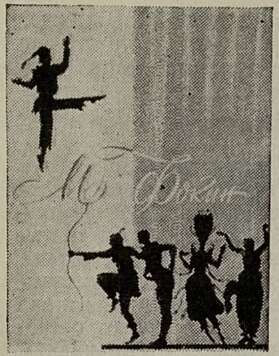
становившимися отличными продолжателями давно устоявшихся традиций. Над истинной ценностью этих традиций и стал задумываться Фокин. Постепенно он подверг сомнению многие из них — и шаблонную драматургию балета, и танец как самоцель, и дух премьерства, и музыку, низведенную до аккомпанемента, и традиционный костюм, и трафаретное оформление.
Однако было бы неверно утверждать, что Фокин был первым и единственным, увидевшим истинное положение искусства тех лет. Идея реформы в различных сферах искусства была подготовлена назревшим стремлением к обновлению социальной жизни общества. Усилия многих деятелей русской культуры на рубеже XX века были направлены на то, чтобы искусство шло в ногу со временем, отражало передовые чаяния своей эпохи.
Неудовлетворенность состоянием современной хореографии, увлечение живописью, музыкой неудержимо влекло Фокина к новым поискам в педагогике, в исполнительском и балетмейстерско-постановочном искусстве. Оставаясь прекрасным исполнителем ведущих партий, Фокин переносит центр тяжести своих интересов на экспериментирование. Первые опыты — это еще безоговорочное осуждение «старого» балета, стремление к новому во что бы то ни стало. Но с самого начала ясно основное направление поисков — борьба за утверждение реализма в балетном театре.
Много лет спустя, говоря об импульсе своих поисков, балетмейстер назовет имена выдающихся творцов мировой культуры: «Новый русский балет был создан мною под влиянием великих художников, писателей и деятелей искусства: Толстого, Станиславского, Вагнера, Глюка, Микельанджело, Родена... вот откуда пошла моя реформа русского балета» (стр. 521).
Рано стал Фокин балетмейстером. С 1905 года для учащихся и выпускников Театрального училища и артистов Мариинского театра он осуществил ряд постановок небольших балетов и отдельных концертных номеров. В них Фокин последовательно стремился воплотить принципы нового балета. А спустя два года появился его хореографический шедевр, слава которого не меркнет во всем мире более полстолетия, — «Умирающий лебедь» на музыку Сен-Санса.
Среди интереснейших страниц книги — рассказ балетмейстера о постановке этого быстро ставшего знаменитым танца и о его первой прославленной исполнительнице Анне Павловой. Фокин вспоминает десятки людей. Но своей партнерше, ставшей «первой балериной в реформированном русском балете», а затем мировой славой и гордостью русской хореографии,— талантливейшей Анне Павловой Фокин по праву уделяет большое внимание. И поэтому особенно остро воспринимается его статья-некролог «Умерла Павлова», пророческие слова из которой навсегда западают в память: «Павловой нет, нет ее искусства. Но влияние ее осталось. Павлова будет мечтою многих поколений, мечтою о красоте, о радости движения, о прелести одухотворенного танца» (стр. 387).
Мемуары, статьи и письма Фокина рассказывают об очень содержательном, важном периоде истории музыкального театра, помогают понять направление поисков творчества этого замечательного реформатора, деятельность которого неразрывно связана с быстрой эволюцией русской хореографии двух первых десятилетий XX века.
Так, например, в 1909 году Фокин солидаризируется с оценкой И. Репина, которую художник дает современному балету: «До сих пор балет был казенен, скучен, однообразен и глуп...» (стр. 338). Балетмейстер признает, что «старый балет опоздал умереть. Его терпят, потому что недостаточно чувствуют, что спорт состязания в турах и крепости носка, никому не понятная условная жестикуляция и пр. занимают место того подлинного классического искусства, в котором так сильно нуждается театр» (стр. 338). С горечью Фокин признает: «Как сотни и тысячи лет тому назад люди понимали красоту человека, как умели выразить ее в прекрасных формах и движениях мраморного тела и как беспомощно теперь живое тело! Если допустить, что, действительно, балетные pas выражают современный идеал красоты, то стыдно станет за XX век!» (стр. 339).
Фокин убежден, что на сцене «человек, ничего не выражающий, не может быть красив. Как человеческая речь, лишенная смысла, не может быть прекрасной, так речь тела должна непременно выражать мысль, или чувство, или настроение, и только тогда она будет эстетически приемлема» (стр. 377). Он мечтает о том, чтобы балет стал «пластической симфонией», где «важен каждый артист, каждое движение, каждая поза, которую мы видим на сцене» (стр. 375). В этом залог создания «пластической симфонии», цельного художественного произведения, которое нельзя приносить «в жертву исполнительнице, хотя бы и лучшей» (стр. 375). Подтверждение правильности своих мыслей Фокин видит в искусстве театра драматического и оперного: «То, о чем мы говорим, перестало быть спорным для драмы, для оперы. Только для балета здесь может быть еще какой-то вопрос» (стр. 375–376).
«Балет должен быть драмой, только драмой пластической» (стр. 376), — утверждает Фокин. Поэтому и танцу, как основе балета, «нужно быть драматическим, в самом, конечно, широком смысле этого слова. Он должен быть действенным, содержательным, эмоциональным, одухотворенным. И это нужно не для драмы, а для самого танца» (стр. 377).
Удалось ли Фокину на практике воплотить свои мечты, свои теоретические положения? В лучших постановках — безусловно. Очень чуткий ко всем выдающимся явлениям искусства, Луначарский в корреспонденции 1913 года, посвященной русским спектаклям в Париже1, писал
_________
1 А. В. Луначарский о театре и драматургии. «Искусство», М, 1958, т. 1, стр. 119.
в «сумасшедшем успехе русского балета во всей Европе». Секрет этого успеха он видит прежде всего в том, что Фокин «неожиданно развернул перед Европой подлинно драматический балет», где движения большой гибкости и исключительной чистоты способствовали раскрытию чрезвычайно глубокой драмы, сочетающейся с элементами балетными в неразрывное целое. В более поздней работе («К столетию Большого театра», 1925) Луначарский говорит о благотворном влиянии Фокина не только на петербургский, но и на московский балет, которому «сверкающее явление Фокина» помогло приобрести «характер динамический и живописный»1.
Неверно говорить лишь о чисто историческом значении этой книги. Роль ее гораздо шире. Читатель не только знакомится с безусловно принесшими пользу отечественному балету эстетическими взглядами Фокина, его творческим методом. Он не только больше узнает о жизни русского искусства начала XX века, о его деятелях. Многие положения, нашедшие отражение в теории и практике Фокина, входят в эстетику советского балета, помогают ее развитию. А некоторые из них давно стали для нас аксиомой. К ним относится, например, требование Фокина воспитать широкообразованного артиста. В начале века такое требование, неоднократно высказывавшееся Фокиным, казалось многим ненужным прожектерством. Однако Фокин последовательно и настойчиво утверждал свои взгляды: артистам балета необходимо специальное образование, они должны знать историю театра, историю хореографии, историю изобразительного искусства и т. д. В стенах Театрального училища и на страницах печати Фокин не уставал повторять, что духовный мир будущих артистов надо расширять и совершенствовать: в этом залог творческого, а не привычно ремесленного отношения танцовщика к искусству хореографии. Это искусство особое. В успешном его освоении многое определяется физическими данными. Но все же главное — талантливость, творческое начало, культура исполнителя. Без этого нет искусства. Задача танцовщика-творца — «выразить чувства, настроения при посредстве движения тела, выяснить свой духовный мир» (стр. 334).
Мысли Фокина о воспитании балетного артиста, о перевоплощении в танце, утверждение им хореографического спектакля как пластической драмы, симфонии, его борьба с балетными штампами, с техницизмом, самопоказом, с дивертисментным характером исполнения, с внешне красивыми, но лишенными внутреннего смысла балетными позами, жестами, движениями и т. д. не утратили своего боевого актуального значения и до наших дней. Они входят в программу современного реалистического балета.
Более полувека назад Станиславский, стремясь создать для зрителей атмосферу подлинности сценической жизни, отменил в Художественном театре поклоны артистов после окончания каждого акта. А в балетном театре и сейчас продолжают «законно» существовать выходы на аплодисменты во время действия. Надо ли говорить, как это снижает общее впечатление от спектакля, разрушает восприятие цельности постановки, правды воплощенных в ней образов и превращает балет в развлекательное зрелище? Еще в начале века Фокин считал, что такие «успехи» разрушают целое, и справедливо задавал вопрос: «Разве закон единства, обязательный для всех искусств, не обязателен для балета?» (стр. 121). Невозможно в короткой рецензии раскрыть все богатства, содержащиеся в книге. В ней утверждается реализм искусства балета и доказательно отрицается модернизм, истоки которого, так же как и сущность, Фокин отлично «разглядел», живя и работая за рубежом. Книга рассказывает об истории петербургского балета начала века, о рождении таких прославленных постановок Фокина, как «Шопениана», «Карнавал», «Шехеразада», «Жар-Птица», «Петрушка» и другие, о работе над новыми балетами на музыку Стравинского, Равеля.
Мемуары Фокина «Против течения» охватывают наиболее плодотворный период его творческой жизни: 1899–19141 годы. Но, несмотря на их безусловную ценность, представление о деятельности замечательного балетмейстера было бы неполным, если бы об этом не позаботились люди, стремившиеся шире познакомить читателя с многогранным творчеством балетмейстера — коллектив сотрудников Ленинградской государственной театральной библиотеки им. А. В. Луначарского и Ю. Слонимский — известный советский театровед, редактор-составитель сборника и автор вступительной статьи «Фокин и его время».
В сборнике представлены многие наиболее ценные высказывания Фокина по важнейшим проблемам музыкального театра. Они извлечены из документов рукописных фондов крупнейших библиотек и музеев Ленинграда и Москвы, из материалов частных архивов. Так родилась вторая содержательная часть книги: «Статьи, интервью, открытые письма. Письма» И наконец, обширный раздел тщательно подготовленных комментариев, список постановок Фокина, а также список ролей и танцев, исполненных Фокиным в Петербурге.
Все это читатель оценит, непосредственно ознакомившись с разнообразными и содержательными материалами сборника, с любовью и вкусом оформленного художником Н. Васильевым.
Впервые воспоминания Фокина, переведенные на английский язык, сравнительно недавно были изданы в США. Редактор зарубежного издания весьма вольно обошелся с текстом воспоминаний, тогда как сборник, выпущенный издательством «Искусство», представляет публикацию авторского подлинника.
Большая заслуга в опубликовании архива выдающегося балетмейстера принадлежит его сыну Виталию Михайловичу Фокину. Он вложил немало труда в систематизацию материалов литературного наследия своего отца, огромное количество которых переслал из США в Советский Союз. В письме от 14 января 1963 года С. Морщихину, ныне покойному директору Ленинградской государственной театральной библиотеки им. А. В. Луначарского, Виталий Михайлович, рассказав о длительных хлопотах, связанных с
_________
1 Там же, стр. 367.
1 На стр. 556 рецензируемой книги ошибочно указан 1912 год.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 8
- На новые рубежи! 9
- Песня рождается в народе 14
- Северной Осетии — 40 лет 15
- Внимание ритму! 24
- На новую ступень 30
- Право на поиск 34
- Добрая инициатива 40
- Из архива М. Е. Пятницкого 43
- Признательность художнику 49
- Святослав Кнушевицкий 50
- У современницы Стасова 56
- Ученик Комитаса 61
- Работая с Бартоком... 63
- Москва — Братск 66
- «Катерина» 68
- Мастер болгарской музыки 69
- Духовой оркестр 70
- Песни Шуберта 70
- Письма из городов. Из Киева 71
- Письма из городов. Из Горького 71
- Из Тбилиси. Грузинский камерный оркестр 72
- Письма из городов. Из Тбилиси. Новые фортепианные произведения 72
- Письма из городов. Из Тбилиси. «Реквием» Моцарта 73
- Певец одноэтажной Америки 73
- Возрожденные традиции 75
- Знакомство обнадеживает! 77
- Музыка будущего 79
- Путешествие в прошлое 90
- Несколько слов об авторе 96
- О чем рассказала музыка 97
- Еще год 101
- В московских лекториях 103
- Из опыта ленинградцев 106
- Об оперном Яначеке 108
- Новые ключи к старинной музыке 117
- Посланцы польского фольклора 122
- На польской земле 125
- Искания художника-новатора 138
- Книга о польском классике 141
- Е. А. Бекман-Щербина. Мои воспоминания 144
- Библиография музыкальной библиографии 144
- Новые записи 145
- Наши юбиляры. С. С. Туликов 146
- Наши юбиляры. М. А. Гринберг 147
- Наши юбиляры. Г. А. Поляновский 148
- В смешном ладу 149
- Когда опущен занавес 152
- На сцене 1917-й 155
- Ташкентская весна 157
- Они приняты в Союз 157
- У композиторов-горьковчан 158
- Вести из Кузбасса. Даешь абонементы 159
- Вести из Кузбасса. Ребята хотят учиться музыке 159
- Вести из Кузбасса. Звездочка над Киселевском 160
- Международный конгресс этнографов 161
- Хор Соколова в Киеве 162
- Из редких фотографий 162
- Обаяние таланта 163
- Первый звуковой… 164
- Премьеры. Тбилиси, Казань, Челябинск 164
- «Страна Оркестрия» 165
- Школе — 20 лет 166
- [Вот уже более десяти лет Илья Михайлович Миський…] 166
- Дом грампластинок или оптовая база? 167
- Идею убило равнодушие 167
- Памяти ушедших. Виллем Капп 169
- Памяти ушедших. Л. М. Адамов 169



