дущего». От оперной драматургии Моцарта и Бетховена до камерной лирики романтиков, от венского классического симфонизма до героико-патриотической оперы новой итальянской школы, от немецкой романтической оперы до монументальных ораториальных жанров Берлиоза и блестящего театрализованного спектакля Мейербера тянутся преемственные связи с художественными идеалами Глюка. Вместе с тем о масштабе и резонансе совершенной им реформы не догадывались не только современники Глюка, но и он сам. Подобно тому, как Колумб, открывая Новый Свет, предполагал, что нашел лишь кратчайший путь в Индию, так и Глюк считал, что занимается только преобразованием современной итальянской оперы. Он писал об ариях da capo и вокальной орнаментике, заботился об естественности вокального интонирования и выразительной функции оркестра и т. д. и т. п. А между тем за этими узкими, «цеховыми» понятиями выступали очертания музыки будущего. Крупнейшие явления в музыкальном творчестве XIX века озарены отблеском идей великого оперного реформатора.
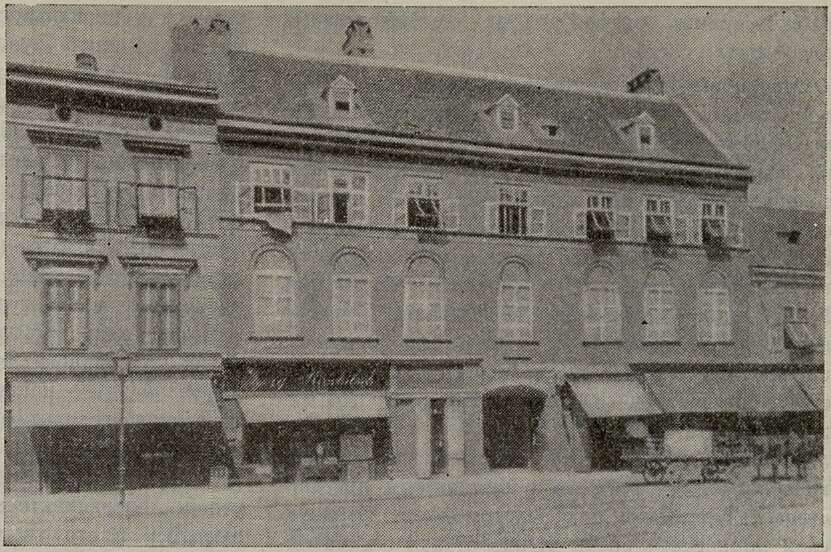
Дом в Вене, где жил Глюк
*
Глюку было около пятидесяти лет, когда он приступил к осуществлению задуманной реформы.
Любимец публики, награжденный орденом венского двора, автор множества опер, написанных в сугубо традиционном декоративном стиле, Глюк, казалось, не сулил музыке новые горизонты: интенсивно работающая мысль долгое время не прорывалась на поверхность, почти не отражалась на характере его изящного, аристократически холодного творчества. И вдруг на рубеже шестидесятых годов1 в его произведениях почувствовались поиски, направленные против замкнутости и закостенелости условного оперного стиля. И действительно, создание «Орфея и Эвридики» в 1762 году до основания потрясло вековые устои оперной эстетики. После этого Глюк написал четыре музыкальные драмы1, которым наряду с «Орфеем» суждено было затмить все созданное в оперном искусстве его предшественниками.
Музыковедам еще предстоит раскрыть для мира роль чешской культуры в формировании творческого облика композитора (и, в частности, исследовать влияние национального чешского фольклора на строй его музыкального мышления). Но уже и сейчас можно предположить, что поражающая нас сегодня широта художественного кругозора, вне которого его реформа немыслима, была предопределена особенностями интеллектуального склада и чешского народа. Самое первое, лежащее на поверхности наблюдение, касающееся глюковской музыкальной драмы, упирается в удивительную восприимчивость композитора к новейшим веяниям современности, в его творческую готовность к пере-
_________
1 Уже в опере, относящейся к 1755 году, «L’innocenza qiustificata» («Оправданная невинность»), намечается отход от принципов, господствовавших в итальянской опере seria. Балет «Дон Жуан» на сюжет Мольера (1761) в ряде отношений предвосхитил его оперную реформу.
1 «Альцеста» (1767), «Ифигения в Авлиде» (1774), «Армида» (1779), «Ифигения в Тавриде» (1779). Вторая редакция «Орфея и Эвридики» была осуществлена в 1774 году, «Альцесты» — в 1776. К реформаторским операм Глюка принадлежат также «Парис и Елена» (1770) и «Эхо и Нарцисс» (1779). Однако по своим художественным достоинствам они уступают вышеназванным операм.
работке самых разнообразных художественных впечатлений.
Стоило ему в молодые годы услышать в Лондоне недавно созданные и еще не известные в континентальной Европе оратории Генделя, как их возвышенный героический пафос и монументальная «фресковая» композиция стали органическим элементом его собственных драматических концепций. И тут же, наравне с влияниями пышной «барочности» генделевской музыки, Глюк вынес из музыкальной жизни Лондона покоряющую простоту и кажущуюся наивность английских народных баллад. Достаточно было его либреттисту и соавтору реформы Кальзабиджи обратить внимание Глюка на французскую лирическую трагедию, как он мгновенно зажегся интересом к ее театрально-поэтическим достоинствам1. Появление при венском дворе французской комической оперы также отразилось на образах его будущих музыкальных драм: они «спустились» с ходульной высоты, культивировавшейся в опере seria под влиянием «эталонных» либретто Метастазио, и сблизились с реальными персонажами народного театра. Передовая литературная молодежь, задумывающаяся над судьбами современной драмы, без труда вовлекла Глюка в круг своих творческих интересов, заставивших его критически взглянуть на устоявшиеся условности оперного театра. Подобные примеры, говорящие об острой творческой восприимчивости Глюка к новейшим течениям современности, можно было бы умножить.
А теперь вспомним ту особую роль, которую на протяжении длительного времени играли пражские музыканты и пражская публика в музыкальной жизни Европы. Вспомним, что Прага оценила оперное творчество Моцарта раньше, чем Вена; что именно чешские музыканты поддерживали новаторские устремления Шуберта в годы, когда на его родине они еще вызывали лишь равнодушие или недоумение; что «Волшебный стрелок» Вебера немыслим вне его чешского фона; что создателями как циклической симфонии (классического типа), так и романтической фортепианной миниатюры были музыканты-чехи2. И тогда станет ясно, что в передовой направленности мысли Глюка, в его свободе от национального пристрастия проявлялись не только индивидуальные особенности. Все это было наследием чешского склада ума, характера, художественной мысли. Подобно тому, как акцент, сохранившийся в немецкой речи прославленного музыканта венского двора до конца жизни, выдавал его «богемское» происхождение, так и его «открытость» ко всему новому, оригинальному, значительному в общеевропейском масштабе говорит об интеллекте, сформировавшемся в культурной атмосфере Праги. И еще одно обстоятельство. Глюк, живший в Чехии до двадцати двух лет, не получил у себя на родине того крепкого профессионального образования, которое было уделом его коллег в странах центральной Европы. Разумеется, позднее приобщение к композиторской, в особенности к контрапунктической технике, всегда сказывалось в его творчестве. Однако недостаток его школьного обучения компенсировался той силой и свободой мысли, которая позволила ему обращаться к новому и актуальному, лежащему за пределами указанных норм. Мне приходилось встречать в западной музыковедческой литературе параллели между Глюком и Мусоргским1: оба этих оперных реформатора совершили великое в искусстве, казалось бы не овладев в полной мере его «технологией» (в ее школярском понимании). Мне представляется, что это совпадение можно рассматривать как закономерное. Ведь не только Глюк и Мусоргский, но и Шуберт и Глинка, и Балакирев, и Римский-Корсаков, и некоторые другие представители национальных школ в музыке открывали новые пути с легкостью и смелостью, которые были возможны именно благодаря свободе от цехового педантизма. В Чехии интерес Глюка к музыке развивался свободно и самостоятельно, без груза авторитетов, без давления регламентов и канонов. К тому времени, когда он, достигнув двадцати трех лет, впервые приступил к серьезным профессиональным занятиям в Италии, его художественное воображение, опережавшее уровень его технического мастерства, было развитым и многосторонним. Возможно, уже тогда в нем рождались великие замыслы будущего.
А зрелое воплощение их четверть века спустя обозначило в музыкальном искусстве рубеж, от которого не могло быть возврата к прошлому.
*
Глюк первый поднял оперу до идейного и художественного уровня драматического театра.
_________
1 У нас нет сведений о том, что Глюк слышал оперы Рамо во время его кратковременного пребывания в Париже, хотя, разумеется, это не исключено и даже вероятно.
2 Создателем так называемой «мангеймской» симфонической школы был чех Иоганн Стамиц; первые фортепианные миниатюры принадлежат чешским композиторам Воржичеку и Томашеку.
1 См. например: Eric Вlоm. Gluck. Grove's dictionnary of music and musicians. 1954, vol. VI.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 8
- На новые рубежи! 9
- Песня рождается в народе 14
- Северной Осетии — 40 лет 15
- Внимание ритму! 24
- На новую ступень 30
- Право на поиск 34
- Добрая инициатива 40
- Из архива М. Е. Пятницкого 43
- Признательность художнику 49
- Святослав Кнушевицкий 50
- У современницы Стасова 56
- Ученик Комитаса 61
- Работая с Бартоком... 63
- Москва — Братск 66
- «Катерина» 68
- Мастер болгарской музыки 69
- Духовой оркестр 70
- Песни Шуберта 70
- Письма из городов. Из Киева 71
- Письма из городов. Из Горького 71
- Из Тбилиси. Грузинский камерный оркестр 72
- Письма из городов. Из Тбилиси. Новые фортепианные произведения 72
- Письма из городов. Из Тбилиси. «Реквием» Моцарта 73
- Певец одноэтажной Америки 73
- Возрожденные традиции 75
- Знакомство обнадеживает! 77
- Музыка будущего 79
- Путешествие в прошлое 90
- Несколько слов об авторе 96
- О чем рассказала музыка 97
- Еще год 101
- В московских лекториях 103
- Из опыта ленинградцев 106
- Об оперном Яначеке 108
- Новые ключи к старинной музыке 117
- Посланцы польского фольклора 122
- На польской земле 125
- Искания художника-новатора 138
- Книга о польском классике 141
- Е. А. Бекман-Щербина. Мои воспоминания 144
- Библиография музыкальной библиографии 144
- Новые записи 145
- Наши юбиляры. С. С. Туликов 146
- Наши юбиляры. М. А. Гринберг 147
- Наши юбиляры. Г. А. Поляновский 148
- В смешном ладу 149
- Когда опущен занавес 152
- На сцене 1917-й 155
- Ташкентская весна 157
- Они приняты в Союз 157
- У композиторов-горьковчан 158
- Вести из Кузбасса. Даешь абонементы 159
- Вести из Кузбасса. Ребята хотят учиться музыке 159
- Вести из Кузбасса. Звездочка над Киселевском 160
- Международный конгресс этнографов 161
- Хор Соколова в Киеве 162
- Из редких фотографий 162
- Обаяние таланта 163
- Первый звуковой… 164
- Премьеры. Тбилиси, Казань, Челябинск 164
- «Страна Оркестрия» 165
- Школе — 20 лет 166
- [Вот уже более десяти лет Илья Михайлович Миський…] 166
- Дом грампластинок или оптовая база? 167
- Идею убило равнодушие 167
- Памяти ушедших. Виллем Капп 169
- Памяти ушедших. Л. М. Адамов 169



