Письмо из Ленинграда
Новая симфония
Март оказался небогат новинками. Правда, ленинградские новинки (иные из них далее неизвестны нашим слушателям) звучали в Москве, на Молодежном пленуме ССК. У себя же, дома, состоялась лишь премьера Третьей симфонии Б. Арапова. Сочинение это заслуживает специального разбора. Здесь мы расскажем лишь о первом впечатлении...
Симфония программна, можно сказать даже, полемически программна. Хотя в последние годы начиная с Одиннадцатой Д. Шостаковича тип «театрализованной» симфонии все смелее утверждается в советской музыке, многие композиторы все же испытывают боязнь этой разновидности жанра: как бы большая образная, живописная конкретность музыки не разрыхлила ее «концепционность». Незачем приводить многочисленные примеры из классики, чтобы доказать необоснованность таких опасений. Хорошо, что ими пренебрег Арапов — его симфония вносит в эту область нужное разнообразие.
Тема симфонии — борьба за мир; в отдельных частях открываются взору разные ее аспекты. Первая часть — образы войны, бедствий, разрушения и возмущенный призыв «Никогда!». Вторая часть — дьявольская пляска злобных сил. Скорбного характера средний раздел типа пассакалии, по мысли автора, выражает страдания и гнев угнетенных народов. В третьей части — схватка сил жизни и смерти: один из эпизодов здесь галерея политических шаржей на поджигателей войны. В конце части, на большом подъеме, утверждение сил мира и добра. И четвертая часть — радостный взгляд в завтрашний день: в голоса природы более не вонзится вой сирен, их прервет лишь вихрь взмывающей в космос ракеты. Программа эта довольно обстоятельна. Но по музыке чувствуется, что в некоторых разделах (например, середина третьей части) у композитора программный замысел еще более детализирован. Это в аннотации, к сожалению, не отразилось; а ведь такого рода программа является компонентом художественного целого, подобно тексту в вокальном произведении. Мы не беремся судить подробно о достоинствах и недостатках музыки: это тема отдельной статьи. Отметим поэтому немногое — то, что в симфонии ощущается рука мастера, точно выполняющего все задуманное, что, несмотря на интонационную и жанровую многосоставность, она цельна по стилю, что музыка по-настоящему хорошо звучит в оркестре.
Заслуженный коллектив республики оркестр Ленинградской филармонии и дирижер Арвид Янсонс тщательно отрепетировали новое сочинение и сыграли его с большой художественной свободой и подъемом.
Концертирует молодежь
Это был месяц молодых исполнителей. Своеобразный, незапланированный и неафишированный фестиваль удачно открыл второго марта дебютировавший у нас пианист Николай Петров. Молодого москвича, как известно, недавно «открыл» музыкальному миру конкурс им. Вэна Клайберна в Техасе. Об этом хочется напомнить, потому что в игре Петрова есть нечто «клайберновское»: дарование светлое и гармоничное, непринужденность музицирования, чистый и прямодушный взгляд на мир. Многое из сыгранного им обнаруживало тонкое чувство стиля (например, соната Скарлатти) и свежую образность мышления (превосходно, с чисто театральной рельефностью прозвучала в листовской фантазии «Дон Жуан» тема дуэта). У него отличный пианистический аппарат, да и вообще уровень профессионализма настолько высок, что придраться можно лишь к деталям, далеко не самым существенным (ну, скажем, несколько неровным было движение в финале бетховенской Сонаты соч. 2 № 3, большей колористической гибкости хотелось в «Благородных и сентиментальных вальсах» Равеля). Со временем
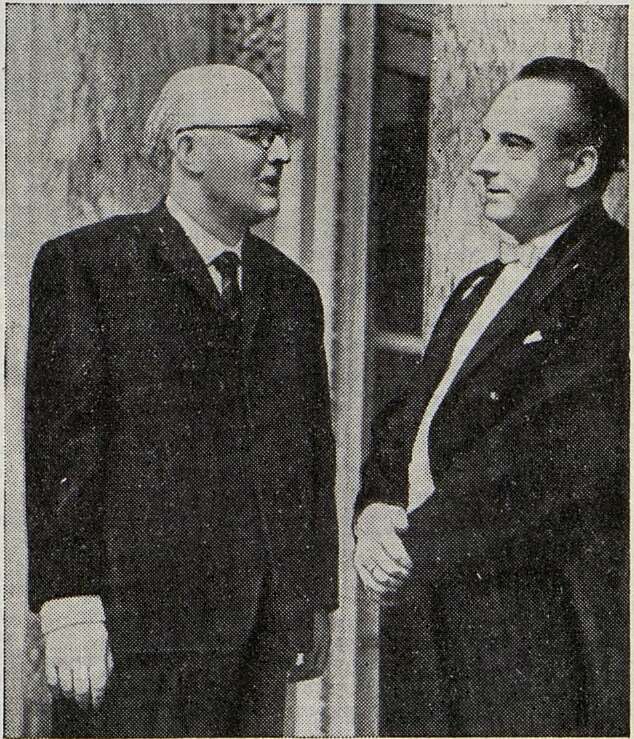
Б. Арапов и А. Янсонс
(Петрову сейчас двадцать лет), вероятно, появится в его игре большая глубина, драматургически контрастнее, разнообразнее станут краски, но будем надеяться, что он сохранит душевную свежесть и умную объективность чувств — качества, «с первого взгляда» пленившие ленинградцев в Петрове.
В Ленинградском Концертном зале проводится интересный абонемент «Молодые исполнители — лауреаты всесоюзных и международных конкурсов». Он дает возможность оценить, насколько оправданным было для начинающих артистов первое признание, как они творчески растут. В мартовском концерте этого цикла выступили ленинградцы — лауреаты конкурса на Восьмом всемирном фестивале демократической молодежи в Хельсинки. Пианист Всеволод Демидов и виолончелист Юрий Фалик по характеру одаренности противоположны друг другу. В игре Фалика преобладает интеллектуальное начало; впрочем, если прислушаться, всегда ощутишь в ней и внутреннюю трепетность, порой с чрезмерным усердием сдерживаемый лирический ток. Способный и разносторонний музыкант (он сочетает занятия в аспирантуре у М. Ростроповича с учебой на композиторском отделении консерватории), обладающий отличным слухом и ощущением формы, приятным звуком (которому, быть может, чуть вредит излишняя «мелкая» вибрация), Фалик привлекает серьезным отношением к искусству. Через неделю после вечера в Концертном зале он дал самостоятельный концерт в Малом зале филармонии с программой, включавшей старинную и современную зарубежную музыку. В сольной Сонате Хиндемита (соч. 25 № 3) особенно хорошо проявилась мужественная, ясная, ритмически собранная манера игры Фалика, но и лирический, по-вечернему грустный Концерт Онеггера удался ему (хорошо аккомпанировала одаренная молодая пианистка Виктория Богдашевская).
Возвратимся, однако, на другой берег Невы в Концертный зал, на вечер хельсинкских лауреатов. Пианист Демидов — ярко выраженный романтик. В его игре всегда живое чувство, напористость, красивое и красочное звучание. Не обходится порой без романтических излишеств, но ему охотно прощаешь эмоциональные перехлестывания за «сквозную» темпераментность и недюжинную музыкальность.
Певцы, выступившие в этом же концерте, завоевали не только медали фестиваля, но и звания лауреатов на Всесоюзных конкурсах им. Глинки — Николай Охотников на первом, Елена Образцова на втором. Оба они наделены сценическим обаянием, поют осмысленно, музыкально и увлеченно. Знаменательно, что у обоих лучше всего прозвучали самые трудные — своей высокой простотой — номера программы: у Образцовой романсы Глинки, у Охотникова — Шуберта. Образцова произвела все же более сильное впечатление: прекрасный голос, мягкий и проникновенный, ровный во всем диапазоне.
Все четверо убедительно подтвердили свое право на высокое звание, но всем еще должно настойчиво совершенствовать свое искусство. Охотников порой форсирует звук, порой голос его не совсем чист по тембру, да и «режиссерская» сторона требует еще работы. Фалику пожелаем большего эстрадного размаха. Демидову — виртуозной точности и стилевого разнообразия: в бетховенских «32 вариациях» хотелось больше строгости и глубины. И Образцовой не все стили еще равно близки: две арии Генделя, например, были спеты академически строго, красивым звуком, но немного формально, по-музейному чинно. Да и следовало бы разнообразить приемы сценической выразительности.
В том же Концертном зале появляются афиши с именами выдающихся наших пианистов, но играют не они, а их ученики — это показы исполнительских классов Московской консерватории. Программы тематические. Первым, в феврале, выступил класс Я. Зака. Концерт был посвящен 100-летию Ленинградской консерватории (приятное для ленинградцев начало!), исполнялись произведения композиторов, окончивших се. В марте состоялся концерт класса Г. Нейгауза с программой, приуроченной к столетию со дня рождения Дебюсси. Генрих Густавович произнес вступительное слово о Дебюсси, и оно создало еще до того, как зазвучала музыка, чудесную поэтическую настроенность, которая сохранялась в зале, пока не угас последний звук. Каким цельным и каким разнообразным предстал в этот вечер замечательный композитор Франции! Какой единой и многоликой предстала и одна из лучших наших исполнительских школ! Приятно было ощущать, как непохоже проявляется «нейгаузовское» у каждого из талантливых юных музыкантов, особенно полно, пожалуй, у Л. Буниной и В. Кастельского. В апреле ученики Л. Оборина и Я. Флиера отметили рахманиновскую годовщину.
Интерес, проявленный публикой к этому начинанию, должен побудить руководителей Концертного зала к устройству показов других, и не только фортепианных, классов. Концертным организациям столицы стоило бы перенять этот опыт: ведь и в Ленинградской консерватории есть классы, которые смогут ее достойно представить. Наверное, и другие города подхватят такую инициативу...
...В 1959 г. ленинградский скрипач М. Вайман концертировал в Японии. В Токио к нему обратилась профессор местной консерватории Н. Бубнова с просьбой послушать двух ее учениц, 14-летнюю Тейко Маехаси и 16-летнюю Масуко Усиода. В свое время Бубнова училась в Петербургской консерватории у И. Налбандяна. Она высказала пожелание, чтобы ее воспитанницы совершенствовались в Ленинграде, где могли бы наиболее успешно воспринять традиции той школы, к какой причисляет себя их педагог. И вот два года японские скрипачки живут в Ленинграде, занимаются у Ваймана, часто выступают. Усиода старше, опытней, играет более фундаментально; Маехаси более непосредственна и лирична. На концерте в Малом зале филармонии они проявили органическую музыкальность и свойства, в которых ощущалось нечто национально характерное: целомудренную возвышенность и природную грацию. Обе обнаружили также хорошую культуру, не только узко профес-
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- В борьбе за нового человека 5
- Творить для народа во имя коммунизма 11
- Романтика подвига 26
- Слышать время! 29
- К 60-летию А. И. Хачатуряна. Юбиляра поздравляют 33
- Юбиляра поздравляют 34
- Юбиляра поздравляют 35
- Юбиляра поздравляют 35
- Юбиляра поздравляют 36
- Юбиляра поздравляют 36
- Юбиляра поздравляют 37
- Юбиляра поздравляют 38
- Юбиляра поздравляют 38
- Юбиляра поздравляют 39
- Юбиляра поздравляют 39
- Художник мира 39
- С любовью к жизни 44
- Шесть часов… 46
- Говорит Арам Хачатурян 57
- «Валькирия» 63
- «Украденное счастье» 67
- «Свет и тени» 69
- Возвращаясь к спору о «Китеже» 72
- Вдохновенный мастер 76
- Я помню чудное мгновенье 77
- Наш друг 79
- Незабываемое… 80
- Ее ученица 81
- Музыка больших чувств 95
- Песни и танцы Татарии 96
- Слушая «Соловья» 98
- Письмо из Ленинграда 99
- Поэт виолончели 101
- Гости из Турции 102
- Москвичи аплодируют 103
- Необыкновенный дуэт 105
- Бриттен рассказывает 106
- Планировать творчески! 110
- Не пора ли? 114
- В единстве с режиссером 116
- Песня о дружбе 118
- Кубинский дневник 120
- Музыкант революции 125
- За пультом Росица Баталова 127
- Письмо из Америки 129
- У нас в гостях чехословацкие музыканты 130
- Новое о Прокофьеве 131
- Как мы помогаем слушателям? 132
- Рассказ о певце свободы 137
- Книга о кубинской музыке 138
- Наши юбиляры. Р. К. Габичвадзе 142
- Наши юбиляры. Г. С. Лебедев 142
- Наши юбиляры. Т. С. Маерский 143
- В смешном ладу 145
- Международный калейдоскоп 149
- У композиторов Татарии 151
- Вести из Литвы 151
- Они приняты в союз 153
- Брошюры по эстетике 153
- Хоровой музыке — зеленую улицу 153
- Новый узбекский балет 154
- Античные герои на оперной сцене 154
- Они поют в Болгарии 155
- Авторский вечер М. Коваля 156
- Говорят директоры издательств 156
- Говорят директоры издательств 157
- Гости столицы 158
- Опере — жить 159
- Летом в парках столицы 160
- Директор был прав… 161
- Встречи с читателями 162
- Новые назначения 163
- Наши «пятницы» 163
- Кончаловский — музыкант 164
- Премьеры 165
- Памяти ушедших. С. Л. Бретаницкий 166
- Памяти ушедших. К. К. Пигров 166
- Памяти ушедших. Б. Б. Тиц 166



