сенная Анежка падает без чувств к ногам Черной женщины, и сразу же в небе вспыхивает чудовищный лик святого; вырывающееся справа пламя выхватывает из мрака белое платье девушки, окруженной черным вихрем зловещего пляса. Что-то от гоголевского Вия есть в этой жуткой картине. В обобщенном раскрытии сил зла и мрака ярко выступает основная обличительная идея произведения.
Внутреннее напряжение этой картины разряжается появлением Алеся и его товарищей, спасающих Анежку.
Третий акт вновь возвращает нас в сферу радостных, оптимистических настроений и чувств. Однако начало третьего действия представляется слишком инертным по отношению ко всему происшедшему в предыдущем действии. А ведь подобно симфонии, в музыкально-сценическом произведении должен присутствовать цементирующий, связующий материал, иначе весь спектакль рискует распасться на отдельные номера. В известной мере здесь произошло нечто подобное. Поэтому не убеждает и появление мотива, неоднократно звучавшего в первом акте. Его возникновение кажется механическим.
Впрочем, по музыке встреча Анежки и Алеся прелестна. Но здесь, как и в адажио из первого акта, исполнение не выявляет всей выразительности и экспрессии оркестрового звучания.
Драматургически очень уместна реминисценция из предыдущего акта (появление Женщины в черном, требующей смерти Анежки). Возвращающееся остинато басов в сцене отца и дочери звучит как напоминание о мрачном мире сектантов.
Серьезное возражение вызывает интермедия: погруженный в думу Алесь ожидает выздоровления Анежки, а в это время на сцене весьма условно показана смена времен года (осень — зима), в то время как музыка точно рисует одно настроение, которым охвачен юноша. Пожалуй, тут был бы более уместен чистый музыкальный антракт.
Ликующе звучит весенний хор за сценой, создающий яркий контраст хору сектантов. Так же по-весеннему светел дуэт Анежки и Алеся.
К сожалению, очень схематичен финал балета. Несмотря на совершенно определенный характер музыки, хореографии его не хватает целеустремленности и композиционной цельности.
И все же, вопреки ведущимся вокруг спектакля разговорам, мы далеки от мысли считать постановку А. Андреева вообще неудачной. В ней есть интересные решения, отдельные яркие находки, о которых уже шла речь. Основной просчет постановщика, как мне кажется, в том, что, сделав главный акцент на негативной стороне сюжета, он не противопоставил силам зла и мракобесия столь же яркие положительные образы действительности.
В результате пострадала основная идея и антирелигиозная направленность произведения значительно ослаблена. В стремлении исправить этот существенный недостаток и должна вестись дальнейшая работа, тем более что музыка балета располагает качествами, способными поднять спектакль до надлежащего уровня.
Хорошо сделано сценическое оформление художника Е. Чемодурова, более изобретательное во втором акте и несколько схематичное в двух крайних.
О том, как ведет оркестр дирижер Л. Любимов, можно судить по хорошему впечатлению, которое оставляет музыкальная сторона спектакля. И не его вина, что слишком малочисленная смычковая группа не в силах высказать все то, что содержится в превосходной партитуре композитора. Хотелось бы только пожелать, чтобы при дальнейшей шлифовке спектакля был достигнут больший контакт между дирижером и танцовщиками. Балетная труппа минского театра показала себя замечательным коллективом. К сожалению, я имел возможность познакомиться лишь с одним составом исполнителей.
Прежде всего хочется отметить двух главных героев — обаятельную лирическую пару — Анежку и Алеся (артисты Н. Давиденко и В. Миронов). На мой взгляд, в их дуэтах передана вся прелесть первой юношеской любви. Другая лирическая пара, их друзья — русский парень Сергей и латышская девушка Марта (артисты Г. Попов и Р. Красовская); энергичные и задорные, они вносят большое оживление в действие.
Очень ярко исполнены роли сектантов: отца Анежки (артист Г. Мартынов) и Женщины в черном (наиболее драматическая роль балета, с большим темпераментом сыгранная молодой артисткой Н. Порошиной). Мне кажется, что сильная труппа минского театра в целом справилась с поставленной перед ней задачей — передать средствами хореографии всю значительность острой и злободневной темы. Этому в большой степени способствовало интересное либретто Н. Алтухова.
Спектакль «Свет и тени», созданный по мотивам романа Петруся Бровки «Когда сливаются реки», прозвучал гневной отповедью религиозному фанатизму и реакционным предрассудкам.
НАСЛЕДИЕ
Л. Кершнер
ВОЗВРАЩАЯСЬ К СПОРУ О «КИТЕЖЕ»
Итак, постановку «Китежа» на сцене советского музыкального театра Вы считаете возможной... Вид моего собеседника и тон его речи ясно показывали, что такая мысль кажется ему просто кощунственной...
— Позвольте, в отношении замечательного произведения одного из классиков русской музыки (этого Вы не отрицаете? — О, нет!) правильнее было бы ставить вопрос несколько иначе: что заставляет Вас сомневаться в возможности постановки «Китежа» на нашей оперной сцене?
Мой собеседник был причастен к судьбе «Китежа». Ему не нравились, очевидно, элементы мистицизма в иных постановках этой оперы, выпячивание идей православия — в других. Ему казалось, что во всем этом виновата концепция «Китежа», а не то, что ее попросту неверно понимали. Возможно, что не без некоторого участия моего собеседника были сделаны попытки «спасти» оперу, «исправить ошибки» композитора: ввести в число действующих лиц «медицинский» персонал, спасающий княжича, вовсе не убитого, а лишь раненого, превратить смерть и пробуждение Февронии в вариант эпопеи о спящей красавице; объяснить татарам, что перед ними не отражение невидимого града, а результат сложнейшей световой рефракции — научно обоснованное явление, мираж... Но ничто не помогло, и «Китеж» вновь отправился в глубокие «подвалы» нерешительности.
...Час был уже поздний, разговор наш происходил в одном из московских переулков, и мы решили встретиться на следующий день (благо был выходной), еще раз продумав все «за» и «против».
...Вот основные положения моего собеседника.
Идейное содержание любой оперы воплощается в ее ведущем образе. В «Китеже» это Феврония. В ее образе воплощена идея непротивленчества. Значит, основой «Китежа» является толстовская идея непротивления злу. Героико-пат-
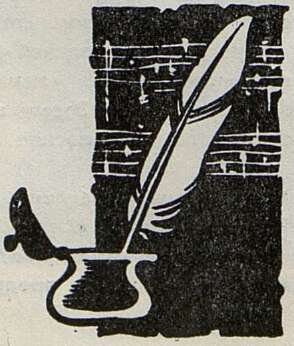
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- В борьбе за нового человека 5
- Творить для народа во имя коммунизма 11
- Романтика подвига 26
- Слышать время! 29
- К 60-летию А. И. Хачатуряна. Юбиляра поздравляют 33
- Юбиляра поздравляют 34
- Юбиляра поздравляют 35
- Юбиляра поздравляют 35
- Юбиляра поздравляют 36
- Юбиляра поздравляют 36
- Юбиляра поздравляют 37
- Юбиляра поздравляют 38
- Юбиляра поздравляют 38
- Юбиляра поздравляют 39
- Юбиляра поздравляют 39
- Художник мира 39
- С любовью к жизни 44
- Шесть часов… 46
- Говорит Арам Хачатурян 57
- «Валькирия» 63
- «Украденное счастье» 67
- «Свет и тени» 69
- Возвращаясь к спору о «Китеже» 72
- Вдохновенный мастер 76
- Я помню чудное мгновенье 77
- Наш друг 79
- Незабываемое… 80
- Ее ученица 81
- Музыка больших чувств 95
- Песни и танцы Татарии 96
- Слушая «Соловья» 98
- Письмо из Ленинграда 99
- Поэт виолончели 101
- Гости из Турции 102
- Москвичи аплодируют 103
- Необыкновенный дуэт 105
- Бриттен рассказывает 106
- Планировать творчески! 110
- Не пора ли? 114
- В единстве с режиссером 116
- Песня о дружбе 118
- Кубинский дневник 120
- Музыкант революции 125
- За пультом Росица Баталова 127
- Письмо из Америки 129
- У нас в гостях чехословацкие музыканты 130
- Новое о Прокофьеве 131
- Как мы помогаем слушателям? 132
- Рассказ о певце свободы 137
- Книга о кубинской музыке 138
- Наши юбиляры. Р. К. Габичвадзе 142
- Наши юбиляры. Г. С. Лебедев 142
- Наши юбиляры. Т. С. Маерский 143
- В смешном ладу 145
- Международный калейдоскоп 149
- У композиторов Татарии 151
- Вести из Литвы 151
- Они приняты в союз 153
- Брошюры по эстетике 153
- Хоровой музыке — зеленую улицу 153
- Новый узбекский балет 154
- Античные герои на оперной сцене 154
- Они поют в Болгарии 155
- Авторский вечер М. Коваля 156
- Говорят директоры издательств 156
- Говорят директоры издательств 157
- Гости столицы 158
- Опере — жить 159
- Летом в парках столицы 160
- Директор был прав… 161
- Встречи с читателями 162
- Новые назначения 163
- Наши «пятницы» 163
- Кончаловский — музыкант 164
- Премьеры 165
- Памяти ушедших. С. Л. Бретаницкий 166
- Памяти ушедших. К. К. Пигров 166
- Памяти ушедших. Б. Б. Тиц 166



