МУЗЫКА В КИНО
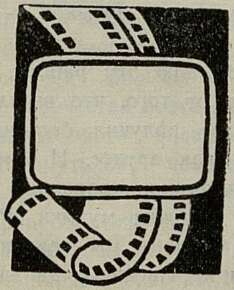
А. БОРИСОВ
«Душа поет...»
На предстоящем съезде советских кинематографистов — честь и место композиторам. В журнале «Советская музыка» (№ 4, 1961 г.) я с огромным интересом прочитал впервые опубликованную переписку композитора С. Прокофьева и режиссера С. Эйзенштейна. В одном из писем Прокофьев в ответ на заманчивое предложение участвовать в создании фильма о Большом Ферганском канале писал:
«...Ты не удивляйся, что я переключился на оперу. Я продолжаю считать кино самым современным искусством, но именно из-за его новизны у нас еще не приучились расценивать составные части и считают музыку чем-то сбоку-припеку, особого внимания не заслуживающим. А между тем, чтобы написать такую вещь, как пески и воды, надо вложить в них очень много. Вот почему я и взялся по старинке за оперу, где за музыкой уже признано должное место: дело верное».
Прошу извинить за большую цитату, но мне хотелось бы, чтобы в разговоре о судьбах музыки в кино — а этот разговор, конечно же, возникнет на съезде — мысли Прокофьева нашли свое продолжение. Очень важно договариться и понять друг другa до конца. И очень важно в наших общих интересах, в интересах кинорежиссеров и актеров, композиторов, зрителей, чтобы музыка стала в кино таким же «верным делом», как в опере.
Не надо только понимать слова «верное дело» как обозначение проторенных дорог или гарантию верного успеха (есть такое актерское словцо «верняк»). Когда С. Эйзенштейн вместе с С. Прокофьевым создавал «Александра Невского», а И. Дунаевский, Г. Александров, Л. Утесов работали над «Веселыми ребятами», когда в кино пришли такие композиторы, как Д. Шостакович, Д. Кабалевский, Т. Хренников, В. Соловьев-Седой и позже талантливая композиторская молодежь, они не думали о «верняке», они шли трудным путем творческого эксперимента, творческого риска...
Бесцельно устанавливать какой-то общий «средний процент» для музыки в фильме. Все зависит от конкретной художественной задачи. С режиссером Г. Рошалем посчастливилось мне
работать над двумя фильмами, оставившими глубокие и радостные творческие воспоминания. Оба фильма относятся как будто к одному и тому же жанру — историко-биографическому, но как несхожи они по своему характеру и как различна в них роль музыки!
В «Иване Павлове» музыка носит в подавляющем большинстве эпизодов вспомогательный, фоновый характер. В «Мусоргском», что, разумеется, связано с самим образом центрального героя, она стала подлинной хозяйкой фильма.
Совсем иной жанр киноискусства и совсем иной принцип использования музыки, принцип введения песни как средства тончайшей психологической характеристики героя, — в «Верных друзьях». В этом фильме я снимался с большим увлечением, да еще имея такого певучего партнера, как Борис Чирков... Мы понимали друг друга с полуслова: режиссер М. Калатозов, актеры, композитор Т. Хренников. Вот действительно редкостный мастер песня, играющий всеми оттенками чувств!
Мне пришлось как-то случайно стать очевидцем яростной стычки режиссера и композитора (совершенно неожиданно для себя я был взят спорщиками в «арбитры»!). Композитор обвинял режиссера в бесцеремонном обращении со своей партитурой, в купюрах, уродовавших музыкальный замысел, и т. д., и т. д. Действительно, когда он стал проигрывать фрагменты своего произведения и показывать, что хочет сделать в этом режиссер, я начинал невольно ему сочувствовать. Но вот взял слово режиссер, стал показывать уже смонтированный эпизод картины — и мы наглядно убедились, что симфоническое сочинение, имея, вероятно, все права на самостоятельное существование, легло бы на него непосильным грузом, мешало бы актеру, нарушало бы ритмический строй действия и попросту не слушалось бы зрителями, как еще нередко бывает в кино! Я тогда еще не читал переписки С. Прокофьева с С. Эйзенштейном, не читал и интереснейшей статьи С. Эйзенштейна о С. Прокофьеве и потому не мог привести их в пример, подыскивая доводы, которые убедили бы и режиссера, и композитора в несложной по сути дела истине. В таком искусстве, как кино, нельзя работать врозь, искусство это коллективно по своей природе, и решительно все: и характер мелодии, и тембр звучания, и ритм, и темп, необходимость дальнего фонового звучания или выплеск музыки на первый план — должно подчиняться четкой и глубокой мысли, быть единственно необходимым в данный момент, в данной ситуации. При таком подходе к делу музыка никогда не будет «сбоку-припеку», и убедительное, целостное художественное произведение можно создать лишь в тесном творческом союзе художников всех родов кинематографического оружия. Здесь может быть только один диктатор — художественная идея, положенная в основу фильма. И чтоб лучше донести ее, где-то на первый план выйдет «голое» слово, где-то игра света, а где-то музыка... Если же композитор сочинял, не считаясь с изобразительными, смысловыми акцентами, ритмом фильма, приемами монтажа, пусть уж не сетует, что его будут кромсать и «уродовать». Сам виноват!
Но бывают и другие, совсем другие случаи, когда кинорежиссер берет для постановки значительное музыкальное произведение, написанное в определенном жанре и не рассчитанное на экранизацию.
Я никак не могу, согласиться с теми купюрами, грубыми вымарками, нарушением внутреннеоправданного и непреложного в своей закономерности развития музыкальной мысли, которые случаются при экранизации произведений оперной классики. Если говорить о подлинном воспитании эстетического музыкального вкуса, то никакие «сокращенные издания», карманные «Анны Каренины», трамвайные «Войны и миры» или музыкальные драмы, уложенные в прокрустово ложе полуторачасового сеанса, не могут ответить этому требованию. (Я не касаюсь весьма опорной постановочной стороны экранизации опер; об этом уже немало говорилось, правда, без особых результатов.) Любая купюра, любое изменение, продиктованные «кинематографической» спецификой, требуют от режиссера глубочайшего художественного такта, абсолютного музыкального слуха, предельно точного и ясного ощущения замысла композитора. И недопустимо, когда во имя примитивно, поверхностно понятой «кинематографичности» режут и режут по живому телу музыкального произведения!..
Вероятно, я не говорил бы об этом с такой запальчивостью, если бы моя актерская судьба не принесла мне великую радость творческого приобщения к жизни и труду одного из величайших художников, думающих музыкой, — Мусоргского.
С наслаждением вспоминаю эту работу, так как я лично (независимо от того, что вышло в фильме, а что не вышло) получил бесконечно много и как человек, и как артист. И именно благодаря вот этой неожиданно дарованной возможности проникнуть в глубины музыки. Разумеется, сейчас многое в фильме мы делали бы иначе, хотя сам замысел и решение ряда эпизо-
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Наша главная забота 5
- Давайте подумаем 8
- С верой в добро и красоту 10
- Спор продолжается 17
- Кипение молодых сил 24
- Гнев и лирика 25
- С любовью к народу 28
- Творческий подвиг 35
- Наш учитель 36
- Незабываемое время 38
- Не упрощать проблему 39
- Залог научных открытий 42
- Творчески разрабатывать функциональную теорию 44
- 14. Прокофьев С. Консерватория 46
- О пятой симфонии 51
- «Что вы думаете о солнце?» 51
- Из воспоминаний 55
- «Далекие моря» 57
- Новая встреча с Катериной Измайловой 61
- Романтический дар 67
- О нашем певческом будущем 71
- Волнующие проблемы 74
- В концертных залах 79
- На совещании Министерства культуры СССР: Работать по-новому 89
- «Душа поет...» 93
- За «круглым столом» редакции 98
- Трибуна университетов культуры 102
- Заметки без музыки 109
- Из писем Вольфа 116
- Из путевых заметок 129
- Памяти польских друзей 135
- Большой успех советской бетховенианы 136
- «Из архивов русских музыкантов» 140
- Искусство портрета 142
- Вышли из печати 143
- Наши юбиляры: Ю. Г. Крейн 144
- В смешном ладу 147
- Хроника 149



