Я — отцу в Сонцовку.
12 (25) января 1905.
[...] От Рейнгольда Морицовича 5 я поехал к Танееву и был у его двери в три часа без семи минут. Танеев переехал со своей старой квартиры на новую — угол Малого Власьевского пер[еулка] и Гагаринского. Над кнопкой электрического звонка была следующая надпись:
С. И. ТАНЕЕВ
просит лиц, желающих его видеть, являться
по вторникам после 3 часов.
Последние пять слов были подчеркнуты двойною чертой.
Я позвонил и вошел. Сергей Иванович вышел меня встретить. Он сначала меня не узнал и потому неуверенно сказал:
— Сережа?..
Увидав сверток, он спросил:
— Это ваши сочинения?
— Да, — отвечал я.
— Что же вы сочиняете теперь нового?
— Теперь я сочиняю новую оперу, «Ундину».
— «Ундину»? Какую же это?
— Жуковского; Лямот-Фукэ.
— А кто же либретто вам писал?
— Одна поэтесса 6.
— Поэтесса?.. А!
У Танеева был какой-то ученик его лет 25-ти. Он меня представил ему, а его мне, только я забыл его фамилию. <У меня всегда была дурная привычка не слушать называемую фамилию.>
— Ну, покажите мне ваши сочинения, — сказал Сергей Иванович.
Я развернул ноты. Здесь была «Ундина» и марш № 1, партитура для военного оркестра.
— Ну, я не понимаю ни капли в военном оркестре, — и он отложил марш в сторону. — А это что?
— Это «Ундина».
— Отчего же она такая грязная? Вся в пятнах!
— Это черновик.
— А... Ну, сыграйте мне Вашу «Ундину».
Я стал играть.
— Нет, вы пойте.
Я стал петь. Уже я проиграл с половину 1 картины 1 акта, как он остановил меня:
— Мне неинтересны эти речитативы. Нет ли у вас какого-нибудь законченного номера?
— Есть, — и я стал играть арию Рыбака.
— Какая интересная средняя часть, — заметил его ученик.
— Отчего же у вас нет контрапункта или имитации? <У меня написано эмитации.> А то аккомпанемент у оркестра слишком прост.
— В конце арии есть имитация при повторении первой темы.
— Ага. Ну вот, так, так. А это что?
— Это поток.
— Ну, ну, играйте ваш поток.
Я стал играть.
— Это что, поток затихает? — спросил он после некоторого времени.
— Да затихает.
Я кончил поток.
— А это что дальше?
— Это струйки.
— Балет?
— Да...
— А ну-ка, играйте балет. Это интересно.
Я начал играть.
— Постойте! А как он инструментован?
Я объяснил.
— Так, так, хорошо. Играйте дальше. <Вопрос о том, хорошо ли был инструментован балет, остается открытым. Я его сделал для одних деревянных духовых. Впоследствии кто-то в Петербурге оказал, что в такой инструментовке он будет звучать, как шарманка, вместо того, чтобы выходить воздушно.>
Я стал играть балет.
— Вот вам имитация, и какая миленькая! — заметил Танееву его ученик.
Я кончил балет.
— Очень хорошо. Очень красивый балет, — сказал Серг[ей] Ив[анович]. А дальше опять речитативы?
— Да.
— В этом акте есть еще арии?
— Нет, больших нету. Так, маленькие мотивы.
— А во II акте?
— Там будет много арий, но я его еще не начинал писать.
— А вы не писали небольших фортепьянных пьесок?
— Нет, писал. Их у меня новых 12 штук.
— Ну, сыграйте ту, которая вам больше нравится.
Я сыграл романс, посвященный М. Г. Кильштетт.
— И так и кончается? — удивился Серг[ей] Ив[анович], когда я его кончил.
Пример
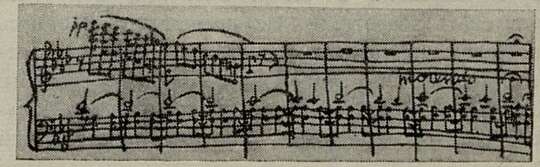
— Да, так и кончается.
— Очень, очень оригинально! А теперь сыграйте что-нибудь быстрое.
Я стал играть песню, посвященную тебе.
— Это как называется?
Vivo. <Песенка № 8, в третьей серии, которую я прошедшей осенью играл перед Р[имским]-Корсаковым на вступительном экзамене в консерваторию.>
— Очень красивая вещь, — сказал Танеев, когда я сыграл. И какой оригинальный размер: все на пять и на пять! Вы теперь учитесь в Петербурге в консерватории?
— Да.
— У кого же вы?
— У Лядова Анатолия Константиновича.
— А скоро вы будете у Николая Андреевича? <Р[имского]-Корсакова.>
— С будущего года, когда буду на контрапункте.
— А много вас в классе?
— Семеро. Один — ваш ученик.
— Кто такой?
— Фивейский 7. Он в этом году перешел в Петербург.
— Фивейский?.. Ах, да! Это мой самый ленивый ученик. Раза три начинал контрапункт: походит урока 2–3 и бросит, — и Серг[ей] Ив[анович] засмеялся. — Вот, — обратился он к своему ученику, — по-моему, самое лучшее начинать теорию в эти года: к 18 годам он кончит консерваторию и будет свободным композитором.
— Ну, до свидания, кланяйтесь вашей маме.
— И мама велела вам кланяться.
Я начал одеваться. [...].
61
[...] Ученики всех классов теории композиции заволновались, когда прошел слух, что в ближайшие дни в Мариинском театре состоится генеральная репетиция новой оперы Р[имского]-Корсакова с каким-то невероятным, бесконечно длинным названием. Это была первая постановка «Сказания о невидимом граде Китеже и о деве Февронии». Старшие теоретики, уже побывавшие на закрытых репетициях, рассказывали, что опера эта исключительно интересна и что в ней много всяких новинок. За час до начала репетиции я одним из первых был у двери, через которую впускали в театр, волнуясь, будут ли пропускать теоретиков. Их постепенно набралась целая куча... Наконец теоретиков впустили и отвели две ложи во втором ярусе с правой стороны. Я очутился рядом со старшим теоретиком Малько 8, у которого в руках был уже напечатанный клавир оперы. Малько был не лишен чувства юмора и, перелистывая клавир, говорил:
— Вот учат нас в консерватории хорошему голосоведению, а сам Николай Андреевич что пишет? Так голоса и налезают один на другой. И он показывал на
Пример
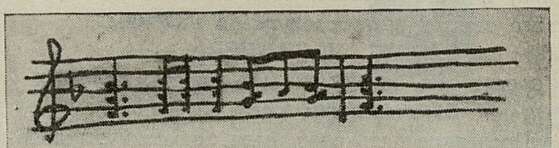
«Китеж» сразу же захватил меня. «Покажи, Михайлушка», певшееся на фоне свободно вертевшегося оркестра; хор «Ой, беда идет, люди», написанный на невероятный размер; страшные трубы татар за кулисами (туба с сурдиной); вся партия Гришки Кутерьмы, с необычайным блеском и драматизмом исполняемая Ершовым 9, чудесные цветы, вырастающие в глухом лесу, — все это было ново и поражало воображение. Но больше всего понравилась Сеча при Керженце, которая в то время казалась мне лучшим, что сделал Р[имский]-Корсаков. Я так много рассказывал дома об этой опере, что мать поручила мне достать на первое представление три билета — ей, тете Тане и мне, что я и сделал не без труда, а затем попросил отпустить меня на второе или третье представление. [...]. В общем я слышал «Китеж» 4 раза, но когда приехал из Сонцовки отец, я потащил и его. Помню, отец приехал весною с курьерским поездом, приходившим под вечер. Я его встретил на вокзале и, несмотря на вечернее время, было еще светло. Когда дня через два мы шли с ним в Мариинский театр на «Китеж», было тоже светло как днем. Отец поручил мне взять места получше (даже Захаров 10, бывший в этот вечер в театре, сидел за несколько рядов позади нас), так что я мог наслаждаться оперой вовсю и как бы угощать отца, объясняя ему наперед те места, на которые следовало обратить особенное внимание.
Встретив в консерватории Р[имского]-Корсакова, я отважился подойти к нему и спросить, будет ли издан «Китеж» в виде двухстрочного клавира без пения. К таким клавирам, имевшимся в библиотеке матери, я привык с детства и особенно любил те, в которых сверху, над музыкой, был напечатан текст. В клавирах с пением строчка для пения обременяла меня, особенно когда в ансамблях она превращалась в целую серию строчек. Разумеется, любовь к клавирам без пения была несерьезна, и я вскоре отделал-
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Наша главная забота 5
- Давайте подумаем 8
- С верой в добро и красоту 10
- Спор продолжается 17
- Кипение молодых сил 24
- Гнев и лирика 25
- С любовью к народу 28
- Творческий подвиг 35
- Наш учитель 36
- Незабываемое время 38
- Не упрощать проблему 39
- Залог научных открытий 42
- Творчески разрабатывать функциональную теорию 44
- 14. Прокофьев С. Консерватория 46
- О пятой симфонии 51
- «Что вы думаете о солнце?» 51
- Из воспоминаний 55
- «Далекие моря» 57
- Новая встреча с Катериной Измайловой 61
- Романтический дар 67
- О нашем певческом будущем 71
- Волнующие проблемы 74
- В концертных залах 79
- На совещании Министерства культуры СССР: Работать по-новому 89
- «Душа поет...» 93
- За «круглым столом» редакции 98
- Трибуна университетов культуры 102
- Заметки без музыки 109
- Из писем Вольфа 116
- Из путевых заметок 129
- Памяти польских друзей 135
- Большой успех советской бетховенианы 136
- «Из архивов русских музыкантов» 140
- Искусство портрета 142
- Вышли из печати 143
- Наши юбиляры: Ю. Г. Крейн 144
- В смешном ладу 147
- Хроника 149



