материала как для оперного, так и для балетного спектакля, рассчитанного на целый вечер.
В конце декабря С. С. снова поехал в Ленинград для переговоров с театром. Он поделился с Асафьевым своими соображениями по поводу «Арапа Петра Великого» и сказал, что хотел бы найти лирический сюжет для балета. Асафьев посоветовал поговорить на эту тему с Пиотровским и вскоре организовал у себя их встречу. Начали перебирать сюжеты, Пиотровский перечислял: «Пеллеас и Мелизанда», «Тристан и Изольда», «Ромео и Джульетта». «В последний сюжет я сразу “вцепился” — лучше не найти», — вспоминал Сергей Сергеевич. Условились, что над либретто он будет работать с Пиотровским и С. Радловым, в то время главным режиссером театра.
Договор с театром все же заключен не был; по ощущению Сергея Сергеевича, колебался директор.
«Я приехал в Москву, и Голованов, бывший тогда главным дирижером Большого театра, сказал, что, если дело идет о “Ромео”, Большой театр сразу заключит со мной договор. Договор был подписан. Летом 1935 г. театр предоставил мне возможность работать над балетом в доме отдыха Большого театра в Поленово, где я почти закончил балет, используя частично темы, сочиненные еще весною».
Осенью в Большом театре состоялось прослушивание балета; Н. Голованов отсутствовал. Балет успеха не имел и поставлен тогда не был.
Позднее к Прокофьеву обратились представители Ленинградского хореографического училища с предложением поставить балет в юбилей училища. Так как они называли точную дату (это было связано с датой юбилея), Сергей Сергеевич, приехав на концерты в Прагу, принял предложение дирекции оперного театра в Брно поставить балет осенью 1938 г., то есть после спектакля в Ленинграде. Однако вместо «Ромео и Джульетты» училище поставило другой спектакль. В театре им. Кирова премьера «Ромео и Джульетты» состоялась в январе 1940 г. Осуществляя постановку, Л. Лавровский, по словам С. С., «много добавил к тому, что было выдумано до него. Впоследствии я счел нужным, включить его в соавторы либретто».
*
Интересна история возникновения темы Монтекки и Капулетти. Некий француз построил себе в Париже особняк, одним из украшений которого был орган. Прокофьев находился в числе приглашенных на новоселье, где присутствовал также известный органист, слепой, импровизировавший фуги на предложенные ему темы. Хозяйка дома попросила Сергея Сергеевича тут же сочинить тему. Исполнив ее просьбу, он с интересом слушал виртуозную импровизацию слепого музыканта на органе.
На другой день Прокофьев получил от хозяйки дома письмо с выражением крайнего сожаления по поводу того, что утеряна печатная программа вечера, на которой он записал тему. К письму был приложен экземпляр программы; на нем композитор должен был восстановить тему. Сергей Сергеевич рассказывал, что небрежность обидела его; он ответил, что тему забыл и восстановить не сможет. На самом же деле он поспешил ее вспомнить и записал в свою нотную книжку.
Во время сочинения балета «Ромео и Джульетта» Сергей Сергеевич вернулся к этой теме, находя ее «органность» подходящей по звучанию для характеристики средневековья, для обрисовки Монтекки и Капулетти. (В балете она впервые появляется в ре миноре, цифра 30).
Л. ПОЛЯКОВА
«Далекие моря»
О последнем оперном замысле С. Прокофьева
В начале 1940 года, когда в Оперном театре им. К. С. Станиславского уже полным ходом шли репетиции «Семена Котко», Прокофьев с восторгом ухватился за веселый и обаятельный сюжет шеридановской «Дуэньи». После трагического напряжения предыдущей оперы хотелось душевной разрядки, хотелось юности и смеха, открытых и счастливых, не искаженных страданием лиц. Так родилось на свет поэтичное, ясное и радостное «Обручение в монастыре»...
Нечто подобное произошло, по-видимому, и весной 1948 года, когда после острейших коллизий военных лет, воплотившихся в грандиозном полотне «Войны и мира» и суровом драматизме «Повести о настоящем человеке», Прокофьева снова потянуло написать лирическую комедию
о юности. Но только теперь композитор непременно хотел взять сюжет из жизни советской молодежи. Пока два ленинградских театра готовили постановки его опер (в Малом оперном шли репетиции второй части «Войны и мира», театр им. Кирова принял «Повесть о настоящем человеке»), Прокофьев и его неизменный соавтор М. Прокофьева просматривали в поисках нужного сюжета множество комедий, водевилей, киносценариев. Мимолетно задержалось внимание композитора на кинокомедии Г. Александрова «Весна» (о девушках-двойниках), на комедии К. Исаева и А. Галича «Вас вызывает Таймыр».
Комедия-водевиль В. Дыховичного «Свадебное путешествие» не отличалась, к сожалению, ни особым богатством образов и ситуаций, ни блеском диалога, увлекавшими в комедиях Гоцци и Шеридана, на которые создавались Прокофьевым «Любовь к трем апельсинам» и «Обручение в монастыре». Пожалуй, это и предопределило с самого начала известную неуверенность композитора в избранной теме. Тем не менее он надеялся, что сюжетная канва этой «комедии положений» в обогащенном и доработанном виде поможет ему создать подходящее либретто.
Как всегда, он подошел к работе с полной серьезностью и основательностью. Необходимо было углубить характеры героев, молодых океанологов, собирающихся в свою первую научную экспедицию. И Прокофьев читал книги о животном и растительном мире океанов и морей, беседовал с учеными-океанологами. Как всегда, он хотел конкретно, точно представлять себе людей, их характеры и взаимоотношения, их жизненные интересы и стремления. Ему хотелось усилить звучание молодежной темы, воспеть хвалу советским юношам и девушкам, их дружбе и любви, их энергии и трудолюбию, их увлеченной преданности науке. Романтический мотив странствий по свету, открывания неведомых далей, устремленности к светлому будущему воплотился в новом названии, которое композитор решил дать этой опере, — «Далекие моря». Подобное усиление позитивного, светлого лирико-романтического начала определило и направление переделок, совершенно очевидных при сравнении оперного сценария с текстом пьесы, и, главное, музыкальное прочтение сюжета.
Прокофьев стремится расширить идейный диапазон произведения, внести в него хоть легкими штрихами, хоть намеками дыхание той разнообразной жизни, которая кипит вокруг его героев. Для этого расширяется, например, место действия. Ограниченное в пьесе студенческим общежитием и квартирой профессора Синельникова, оно переносится в трех из шести картин оперы в новые места: на корабль, на вокзал, на дачу. Несомненно, в этих картинах композитору понадобилось бы введение хора и всевозможных
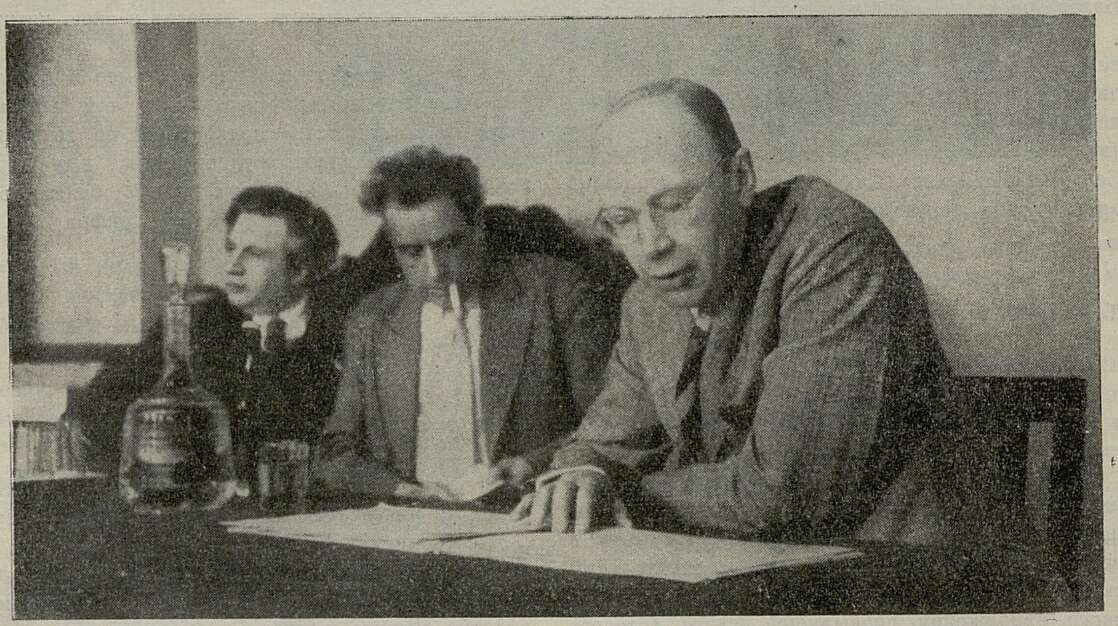
1938 год. После прослушивания оперы «Семен Котко» в театре им. Станиславского.
На фото: 3. Дальцев, Вс. Мейерхольд, С. Прокофьев
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Наша главная забота 5
- Давайте подумаем 8
- С верой в добро и красоту 10
- Спор продолжается 17
- Кипение молодых сил 24
- Гнев и лирика 25
- С любовью к народу 28
- Творческий подвиг 35
- Наш учитель 36
- Незабываемое время 38
- Не упрощать проблему 39
- Залог научных открытий 42
- Творчески разрабатывать функциональную теорию 44
- 14. Прокофьев С. Консерватория 46
- О пятой симфонии 51
- «Что вы думаете о солнце?» 51
- Из воспоминаний 55
- «Далекие моря» 57
- Новая встреча с Катериной Измайловой 61
- Романтический дар 67
- О нашем певческом будущем 71
- Волнующие проблемы 74
- В концертных залах 79
- На совещании Министерства культуры СССР: Работать по-новому 89
- «Душа поет...» 93
- За «круглым столом» редакции 98
- Трибуна университетов культуры 102
- Заметки без музыки 109
- Из писем Вольфа 116
- Из путевых заметок 129
- Памяти польских друзей 135
- Большой успех советской бетховенианы 136
- «Из архивов русских музыкантов» 140
- Искусство портрета 142
- Вышли из печати 143
- Наши юбиляры: Ю. Г. Крейн 144
- В смешном ладу 147
- Хроника 149



