новые выразительные возможности мажора и минора?!
Большое значение в музыкальной ткани хиндемитовского цикла приобретают пустые квинтовые созвучия. Ладовая индифферентность подчеркивается также перегрузкой альтерациями, всевозможными хроматизмами, к которым композитор прибегает порой и в экспонировании темы.
Прим. 2
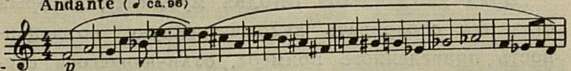
И как прямое следствие коренной пересмотр представлений о тональности (у Б. Шеффера даже звучит нотка сожаления по поводу того, что Хиндемит все еще признает это понятие).
Этот пересмотр представлений приводит к тому, что в ряде пьес тональность — чисто внешний, формальный момент, выступающий лишь в виде тонического обрамления некоторых пьес. Так, фуга ля (№ 4) начинается с изложения темы в фа мажоре, а тональность ля выявляется лишь в ответе; фуга ля бемоль (№ 7) завершается в строе до; окончание фуги ми бемоль нотируется почему-то в ре диез, а завершением этой фуги (как и фуги си бемоль) служит тонический квартсекстаккорд.
В упомянутой работе Г. Тышлера утверждается, что для «Игры тональностей» характерна оригинальная гармония, в частности, вертикальные комплексы квартового строения в основном и в обращенном видах. Однако анализ цикла выявляет надуманность такого утверждения. Объяснение принципа аккордообразования в «Игре тональностей» в книге Б. Шеффера более убедительно: «полилинеаризм», «контрлинеаризм», «агармонизм» — все эти термины, применяемые Б. Шеффером, сами по себе дают представление о сути линеарного многоголосия, но с общей эстетической оценкой его — откровенно апологетической — нельзя согласиться.
Довольно сомнительны также попытки Б. Шеффера сблизить гармоническую систему Хиндемита с додекафонией (общеизвестно, как уничтожающе критически относится Хиндемит к этой умозрительной системе). Однако нельзя не отметить, что «Игра тональностей» изобилует резкими, остро перечащими сочетаниями, в которых часто присутствуют в соседних октавах одноименные звуки с различной альтерацией, а также последовательными параллелизмами квинт, кварт, септим. Естественно, что в таких случаях исчезает гармонический фактор с присущей ему функциональной дифференциацией созвучий. В силу этих причин стремление Г. Тышлера доказать, что «Игра тональностей» равноценна «Хорошо темперированному клавиру», абсолютно несостоятельно. Сравнение этих сочинений безусловно ведет к другим, выводам. Хиндемит в «Игре тональностей» во многом ломает понятия лада, тональности, гармонии, ниспровергает важнейший фактор баховского стиля — органическое взаимопроникновение, единство полифонии и гомофонии.
Возникает мысль: нет ли здесь обращения к добаховской традиции, к каким-то особенностям музыки средневековья? Ведь созвучия пустых квинт, встречающиеся едва ли не всюду параллельные движения, в частности, квинтами н квартами напоминают о начальном периоде западноевропейского многоголосия, а обилие расходной имитации — о полифонических школах строгого письма. Да и само латинское название цикла «Ludus tonalis» воспринимается как отражение интереса композитора к архаике.
Хиндемит — большой и интересный художник. Но сделанный им в «Игре тональностей» серьезный шаг в сторону антигармонии, разумеется, малоплодотворен. Последняя, таким образом, становится уделом не только додекафонистов и сериалистов, о чем говорил на страницах журнала в дискуссии по гармонии Ю. Кон1, но и приверженцев линеаризма.
*
Полифонический анализ 24 прелюдий и фуг Шостаковича содержался в работах С. Скребкова, В. Золотарева, И. Нестьева, Л. Данилевича. Но не менее достойна внимания гармония этого цикла, всюду сохраняющая первостепенное значение.
Представляется, что устоявшиеся понятия, которые А. Шнитке в своем письме, открывшем дискуссию по гармонии, считает недостаточными для анализа гармонического языка «даже таких композиторов, как Дебюсси и Скрябин», вполне применимы для анализа стиля Шостаковича — крупнейшего композитора современности, широко раздвинувшего рамки привычных художественных норм.
Подробное изучение гармонии этого цикла несомненно было бы глубоко поучительно. Мы обратим здесь внимание лишь на некоторые его характерные особенности.
В отличие от «Игры тональностей» 24 прелюдии и фуги действительно преемственны по отношению к Баху. Эта преемственность заметна в
_________
1 См. «Советскую музыку», № 1 за 1962 г., стр. 32.
трактовке «малого цикла», в использовании всех тональностей, в развитии функциональной гармонии, в сохранении традиционных форм контрапунктической разработки материала. Шире, эта преемственность заключается в том, что Шостакович — подлинный новатор — в высокохудожественной форме «подтвердил» значение 24-х тональностей равномерно темперированного строя для современной музыки, жизненность ладотональной основы. И вместе с тем можно утверждать, что прелюдии и фуги — одно из лучших и оригинальнейших созданий Шостаковича, в нем сказалась индивидуальность русского советского композитора.
Цикл содержит образцы многоголосного письма самого различного характера — от предельно ясной по гармоническому стилю фуги ля мажор до весьма сложных сочетаний, например, в фуге ми бемоль мажор. Совершенно очевидно, что выбор гармонических средств в каждой пьесе обусловлен конкретной художественной задачей.
Есть ли в гармонии прелюдий и фуг Шостаковича черты общности с гармонией «Игры тональностей»? Да, есть. К ним, пожалуй, можно отнести отмеченные В. Золотаревым «остро применяемые перечения, черты полифункциональности и политональности, различные так называемые «наползания» или брошенные и не разрешенные диссонирующие интервалы, параллельные кварты, квинты, септимы и т. п.»1. Но существует коренное отличие в характере использования этих приемов у Хиндемита и у Шостаковича. Советский композитор прибегает к ним в условиях прочного лада и определенной тональности, почти всегда при четкой функциональной дифференциации созвучий, что роднит его музыкальный язык с языком классиков. Иное дело в «Игре тональностей», где те же приемы даны на фоне разрушения ладовой природы музыки и серьезной расшатанности тональной основы. Общение автора такой музыки с аудиторией сильно затруднено, а порой и невозможно.
В ходе дискуссии о современной гармонии М. Тараканов и Ю. Тюлин уже упоминали о встречающихся у Баха параллелизмах диссонансов и других «шероховатостях», обусловленных мелодической активностью голосов. Добавим, что подобного рода приемы вызывали порой неодобрение даже выдающихся музыкантов. Так, К. М. Вебер, сравнивая гармонизацию двенадцати хоралов, выполненную Бахом и Фоглером, упрекает Баха в жесткости ряда гармонических оборотов
_________
1 В. Золотарев. Фуга. Издание второе. М., 1956, стр. 378.
в связи с якобы неудачным голосоведением1. Вот один из образцов, вызвавших осуждение Вебера:
Прим. 3

Вряд ли найдется сегодня музыкант, который стал бы оспаривать художественную полноценность приведенного примера, отличающегося свободой вертикальных образований в пределах сравнительно короткого «пробега» голосов между опорными точками, где гармония вполне ясна. В современной музыке, как уже подчеркивал в нашей дискуссии Л. Мазель, подобного рода «пробеги» используются шире, смелее; они достигают значительно большей протяженности, чем у Баха. У Шостаковича их «разрыхляющая» гармонию сила уравновешивается высокой функциональной организованностью узловых моментов развития. В этом отношении чрезвычайно показательны заключительные кадансы, в которых (в отличие от сочинения Хиндемита) отчетливые гармонические формулы как бы подытоживают развитие пьесы:
Прим. 4

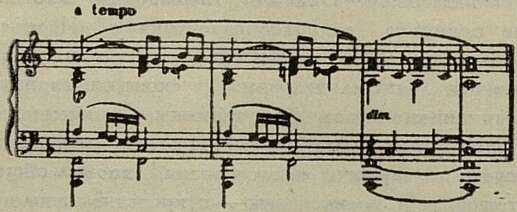
Многие кадансы Шостаковича, казалось бы традиционные, благодаря одному-двум штрихам получают новое, свежее звучание. Обратимся к заключительному кадансу прелюдии до минор, представляющему собой новый вариант полного классического каданса, типичного, в частности, для баховского «Хорошо темперированного клавира». Заканчивается он автентическим последованием: доминанта — мажорная тоника (последней завершается несколько минорных пьес в цикле Шостаковича). Доминанте предшествует двойная доминанта — «участник» многих классических кадан-
_________
1 См.: С. М. v. Weber. Hinterlassene Schrivften. Zweiter Band. 2. Ausg. Leipzig, 1850, s. 44–56.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Раскрывать духовное богатство человека 5
- Музыка «глубокого» экрана 7
- Режиссер встречается с композитором 10
- О путях советского романса 16
- Светлое восприятие жизни 21
- Послушайте эту музыку! 23
- Про що задумалась, дiвчино? 25
- «Поднимись и воскликни: нет!» 29
- Гармония и полифония (заметки о полифонических циклах Баха, Хиндемита, Шостаковича) 31
- О некоторых задачах эстетической науки 37
- Заметки о балете 43
- Возрождение «Лоэнгрина» 46
- Варшавская оперетта в Москве 50
- Равелиана (к 25-летию со дня смерти Мориса Равеля) 53
- Письма А. Е. Варламова к П. А. Бартеневой 66
- Форт-Уорт, конкурс имени Клайберна 69
- Радость творчества 72
- В дальних странах 75
- Зарубежная печать о гастролях советских артистов 77
- Быть ли исполнительской секции? 78
- В защиту баяна 81
- И. Ершов — Гришка Кутерьма 84
- В концертных залах 91
- Музыкальные будни Омска 103
- Певец социалистической Германии (о Гансе Эйслере) 106
- Встречи с Хиндемитом, Шенбергом и Равелем 114
- Золтану Кодаю — 80 лет! 122
- Рождение шедевра 127
- Новые произведения венгерских композиторов 131
- Опера и балет на Зальцбургском фестивале 132
- Студия имени Чайковского 134
- Письмо из Стокгольма 136
- У нас в гостях английские композиторы 137
- Книги А. М. Веприка 140
- Коротко о книгах 142
- В смешном ладу 144
- Хроника 147
- Указатель статей в журнале «Советская музыка» за 1962 год 160



