Конечно, и за границей нет смысла играть собственные произведения, но я все же делаю это; как бы там не воспринимали их, в конечном счете мне безразлично — у меня нет ничего общего с этими иностранными краями. Но от Будапешта я ждал бы иного, чем то, что получаю всюду — и не смог бы вынести... Поэтому я предлагаю вместо моей Сонаты играть Сонату Равеля; Вам это произведение хорошо знакомо, также как и замысел композитора, поскольку Вы играли ее с ним. Я так же охотно играю Шестую сонату Баха и "Крейцерову", но не слишком ли коротка такая программа? Ведь нужно 78 минут музыки, не так ли? Сколько идет Бах? Жду Вашего ответа и шлю множество приветствий.
Бела»
А в другом неопубликованном письме от 4 октября 1944 года он просит меня похлопотать в интересах его жены, мечтавшей сыграть в США Третий фортепианный концерт Бартока. Дирижеров, у которых мне следовало бы «позондировать почву» в этой связи, он называет напыщенными и высокомерными, добавляя: «Что касается этого демарша, то лично я настроен пессимистически; если мои концерты никому не были нужны, когда я сам играл их еще в мою бытность активно выступающим пианистом, то на что же мне надеяться теперь? Но, во всяком случае, я передаю просьбу Дитты».
Когда вспоминаешь о нем, то видишь, насколько характерны эти слова для «ненужного» артиста, уже почти дошедшего до конца своей жизни. Тремя годами ранее (17 октября 1941 года) он писал: «Концертов мало и они редки; если бы нам надо было жить этим, то давно пришлось бы положить зубы на полку...» Все эти проявления оскорбительного равнодушия были тяжелым ударом для артиста, которому его инструмент был так дорог в отличие от композиторов, играющих на рояле с видом снисходительного высокомерия. И это чувство «ненужности» всегда как бы находило подтверждение в повседневной жизни Бартока. 12 июля 1933 года он писал мне из одного швейцарского городка:
«Дорогой друг!
Ваше письмо было переслано мне сюда, здесь я отдыхаю уже несколько недель. Из этого вам станет ясно, что и на сей раз я не буду занят в Мондзее1. Очевидно, не нашлось достаточного количества учеников; во всяком случае, мне не было сообщено окончательное решение по этому вопросу, вот почему я туда не еду.
Если бы удалось осуществить Ваш кливлендский план1, то это было бы чудесно; сообщите мне об этом.
Я здесь неплохо отдыхал, по привычке лазил по горам, а теперь уже собираюсь домой. Увы, я смог приехать только один, без семьи — из-за неблагоприятных финансовых обстоятельств.
Бела Барток»
Сейчас, когда я пишу эти строки, мне вспоминается игра Бартока: ее нервная, ритмическая упругость, ее лиризм, юмор, его рубато в «Un peu gris», я бы мог продолжать так без конца...
Играть с ним сонаты Моцарта (К. 526 и К. 454), бетховенские «Крейцерову» или сольмажорную соч. 30, № 3 было необычайным переживанием. Словно начинаешь с новой, чистой страницы — я лишь так пытаюсь объяснить это. Среди своих немногочисленных дневниковых заметок я нашел одну, помеченную 12 апреля 1940 года, сделанную после репетиции во время подготовки к фестивалю им. Кулидж в Вашингтоне: «Какой разительный контраст по сравнению с обычными тягостными и педантичными репетициями! Само собой возникает чувство правильности интерпретации, чувство уверенности». Мне отчетливо помнится, что острые синкопы в басах — в коде последней части бетховенской сонаты соч. 30, № 3 — звучали как народная, пронизанная свежим воздухом, музыка, которую не удается донести до слушателей в бесчисленных изнеженных трактовках (Помню, когда мы репетировали эту часть, Барток говорил об использовании Бетховеном эффектов волынок в Пасторальной симфонии.)
Теперь, когда, хотя и с запозданием, воздано должное этому замечательному композитору, следовало бы вспомнить о нем как об исполнителе. Хорошо, что недавно в Европе фирма «Филипс» выпустила альбом под названием «Дань уважения Бела Бартоку»: это запись «Контрастов» (фортепианную партию играет сам композитор) и пьес из «Микрокосмоса» в авторском исполнении...
Перевела с английского А. Афонина
_________
1 Австрийский курорт; летом там устраивались «курсы высшего мастерства» для молодых музыкантов. Барток вел класс фортепиано.
1 Американская премьера посвященной мне Рапсодии № 1, которую я играл под управлением Родзинского в сезоне 1933/34 гг. (прим. Сигети).
В КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛАХ
Москва — Братск
...Может ли тайга «войти в зал», принести с собой шум ветвей и порывы ветра? Можно ли в этом зале почувствовать дым костра и увидеть, как просыпается небо? Вдруг оказаться в самом центре огромной стройки, услышать гул экскаваторов, возбужденные голоса строителей и ощутить себя среди них? Мне скажут — да, так бывает в кино. Но так на этот раз было не в кино, а в Колонном зале Дома союзов на творческом вечере Александры Пахмутовой.
Мы часто говорим — современность, наш сегодняшний день. Ищем слова, которые должны объяснить, что это такое и как эта современность должна отражаться в искусстве. Не думаю, что кто-либо из слушателей, находившихся в зале, подыскивал эстетические формулировки, но с уверенностью могу сказать, что все понимали: звучат песни о нашем сегодня, о нас самих. Это окрыляло, создавало то праздничное душевное состояние, которое вдруг заставляло внутренне подтянуться, разрешало улыбаться незнакомым соседям и, что вероятно, оыло наиболее существенным — объединяло, сплачивало людей самых разных характеров, самого разного возраста. И стало ясно: в зале сидят единомышленники и друзья тех, о ком пелись песни.
Как все это удалось композитору? Вероятно, секрета здесь нет. Нужно только уметь оглянуться вокруг себя. И, конечно, любить землю и людей, вкладывающих вдохновенный труд в ее обновление. Как будто просто, а вот встречаешься с этим не так уж часто. В песнях Пахмутовой чувствовалась настоящая и искренняя влюбленность, она-то и не могла оставить никого равнодушным, зажигая тот кусочек солнца, который живет в каждом человеке, как метко написал В. Солоухин в одном из стихотворений.
Концерт был задуман интересно, он представлял собой единое целое, своеобразный рассказ, тема которого — романтика. Песня сменялась песней, а вместо обычных объявлений: «следующим номером нашей программы...» — были эмоциональные, то стихотворные, то разговорные, «вставки» ведущих. «Надо мечтать» и «Машинист» стояли рядом с песнями «Хорошо, когда снежинки падают» и «Я тебя люблю», в которых подкупала непосредственность, особая, девичья чистота. Детский хор под управлением В. Соколова спел две песни из кантаты «Красные следопыты». Первая из них — «Гайдар шагает впереди». Как верно найдены интонации в ней! Они действительно «гайдаровские». Так он сам разговаривал с ребятами, правдиво, без умиления, иногда сурово и в то же время умея всегда повернуть их лицом к романтике. Это хорошая песня о Гайдаре, ее любят школьники. Вторая, «Замечательный вожатый», — энергичная, веселая, действительно пионерская. И, наконец, «Геологи» и «Песня о тревожной молодости». Лирическая собранность, интимность чувства и рядом большая гражданственная тема, продолжающая традиции лучших советских песен. Обе эти песни близки всем, они как настольная книга — к ним часто возвращаешься, их хочется петь, и когда они звучали в этот вечер, многие губы шевелились вместе и покачивались в такт головы.
Второе отделение началось сюитой из музыки к кинофильму «Девчата» (увертюра «Веселые девчата», песня «Старый клен», «Веселая гармошка» — пьеса для аккордеона с оркестром, «Хорошие девчата» и «Вальс»). Это была как бы средняя, лирическая часть в общей «трехчастной форме» программы.
«Куба — любовь моя» — одна из первых песен, которой наш народ откликнулся на появление «республики Кубы — свободной территории Америки». В ней удачно сочетается интонационная близость к кубинской народной музыке, танцевальность с маршевым ритмом и настроение радости. Впервые в этот вечер прозвучало новое произведение Пахмутовой — «Динамо-марш»; в нем очень точно найдена музыкальная характеристика спортивной бодрости, веселого задора. Это марш футболистов, которые не могут не побеждать. Изобретательно использованы оркестровые краски, интересен ритмический рисунок. Судя по успеху, которым было встречено исполнение марша, он, вероятно, станет одним из самых популярных.
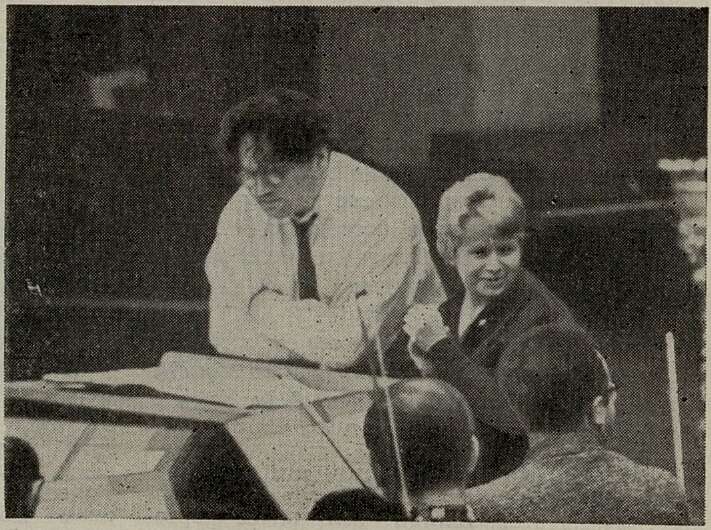
Не так легко выступить с авторским концертом...
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 8
- На новые рубежи! 9
- Песня рождается в народе 14
- Северной Осетии — 40 лет 15
- Внимание ритму! 24
- На новую ступень 30
- Право на поиск 34
- Добрая инициатива 40
- Из архива М. Е. Пятницкого 43
- Признательность художнику 49
- Святослав Кнушевицкий 50
- У современницы Стасова 56
- Ученик Комитаса 61
- Работая с Бартоком... 63
- Москва — Братск 66
- «Катерина» 68
- Мастер болгарской музыки 69
- Духовой оркестр 70
- Песни Шуберта 70
- Письма из городов. Из Киева 71
- Письма из городов. Из Горького 71
- Из Тбилиси. Грузинский камерный оркестр 72
- Письма из городов. Из Тбилиси. Новые фортепианные произведения 72
- Письма из городов. Из Тбилиси. «Реквием» Моцарта 73
- Певец одноэтажной Америки 73
- Возрожденные традиции 75
- Знакомство обнадеживает! 77
- Музыка будущего 79
- Путешествие в прошлое 90
- Несколько слов об авторе 96
- О чем рассказала музыка 97
- Еще год 101
- В московских лекториях 103
- Из опыта ленинградцев 106
- Об оперном Яначеке 108
- Новые ключи к старинной музыке 117
- Посланцы польского фольклора 122
- На польской земле 125
- Искания художника-новатора 138
- Книга о польском классике 141
- Е. А. Бекман-Щербина. Мои воспоминания 144
- Библиография музыкальной библиографии 144
- Новые записи 145
- Наши юбиляры. С. С. Туликов 146
- Наши юбиляры. М. А. Гринберг 147
- Наши юбиляры. Г. А. Поляновский 148
- В смешном ладу 149
- Когда опущен занавес 152
- На сцене 1917-й 155
- Ташкентская весна 157
- Они приняты в Союз 157
- У композиторов-горьковчан 158
- Вести из Кузбасса. Даешь абонементы 159
- Вести из Кузбасса. Ребята хотят учиться музыке 159
- Вести из Кузбасса. Звездочка над Киселевском 160
- Международный конгресс этнографов 161
- Хор Соколова в Киеве 162
- Из редких фотографий 162
- Обаяние таланта 163
- Первый звуковой… 164
- Премьеры. Тбилиси, Казань, Челябинск 164
- «Страна Оркестрия» 165
- Школе — 20 лет 166
- [Вот уже более десяти лет Илья Михайлович Миський…] 166
- Дом грампластинок или оптовая база? 167
- Идею убило равнодушие 167
- Памяти ушедших. Виллем Капп 169
- Памяти ушедших. Л. М. Адамов 169



