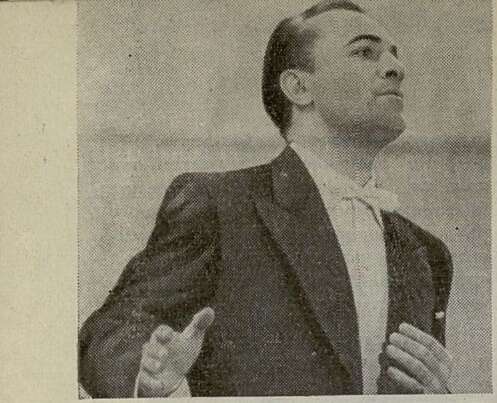
или «очарована», приобрели безусловность заложенного в самой их природе эмоционального понятия.
Впервые в концерте Масленников исполнил ариозо и арию Ленского. И надо сказать, что, пожалуй, еще ни разу в спектакле ему не удавалось с такой внутренней открытостью произнести признание Ленского в любви. Может быть, «виною» этому было то, что певец к концу отделения, после тонко и очень своеобразно исполненного «Средь шумного бала», оказался подготовленным к такой «смелости»
...Вскоре Масленников участвовал в первом оркестровом исполнении цикла Д. Шостаковича «Из еврейской народной поэзии». Безысходное горе разлуки с возлюбленной, мольба на все готового отца, лишь бы дочь вернулась в родной дом, подводят к трагической кульминации первой части — «Песне нищеты». У Масленникова это не песня и не жалоба, а полный сарказма и издевки крик человека, обращенный к себе самому.
Пронзительная, как рыдание скрипки, подхлестывающая реприза: «Гоп-гоп, выше, выше, ест коза солому с крыши», и, чем дальше, тем стремительнее, словно проклятие, темп... Кажется, что в лютую стужу растаскивают убогую лачугу, из каждого угла которой смотрит на вас нищета...
Искренность и глубина раскрытия двух полярных образных сфер Чайковского и Шостаковича говорят о интересной и вполне зрелой художественной индивидуальности, о яркости мастерства Алексея Масленникова. Но кое-что говорит и о том, что он, как многие артисты его поколения, не осознал еще и меру своих далеко не исчерпанных возможностей и меру творческой необходимости. Это относится прежде всего к репертуару. Вряд ли плодотворно замыкаться в кругу четырех-пяти композиторов, как бы ни были хороши их произведения. Камерная литература — область неисчерпаемая. Действительно, порой один романс требует от исполнителя столько красок, сколько потребует иная оперная партия. Масленников слышит эти краски. И они очень красиво и естественно ложатся на его голос. Но то, что он не поет в концертах романсы Бородина, Танеева, Кюи, Шумана, Листа, Малера, Гуго Вольфа, Шапорина или Бриттена, — это его «задолженность» прежде всего самому себе. Долг самый опасный, потому что чаще всего остается неоплаченным. А сколько отзвуков пережитого внесли бы они в оперные партии певца? И в какой интересный мир образов ввели бы слушателей?
В сольном концерте А. Масленникову аккомпанировал К. Виноградов. Правда, по отношению к этому пианисту мало применим данный глагол. Правильнее было бы назвать его партнером, чутко улавливающим интонацию певца и откликающимся на нее в партии фортепиано.
И. Кузнецова
Симфонические концерты
ОГАН ДУРЯН
Государственный симфонический оркестр Армении выступил в Москве с двумя программами. Это был серьезный творческий отчет профессионально крепкого коллектива, обладающего хорошими игровыми и ансамблевыми качествами. Ему под силу сложные задачи, и к решению их он подходит смело и уверенно. Дирижировал Оган Дурян, возглавляющий оркестр в течение последних пяти лет.
Интересным было исполнение сочинений армянских композиторов. Красиво прозвучала побочная партия в первой части Первой симфонии А. Арутюняна, удались и две последние части, особенно скерцо, с его своеобразной ритмикой, переданной дирижером очень органично. И в Симфонии для струнных и литавр Э. Мирзояна наиболее яркой оказалась трактовка скерцо (вторая часть) и финала. Толкование медленных частей обеих симфоний показалось менее убедительным. Так, подчеркнуто острое акцентирование синкоп в Andante из симфонии Арутюняна отвлекало внимание слушателей, нарушало общее течение музыкальной мысли. Более сложным и объемным представляется и внутренний образный строй Adagio из симфонии Мирзояна. В Фантастической симфонии Берлиоза больше всего понравилось «Шествие на казнь». Во второй части («Бал») хотелось бы не только раскрытия танцевальной природы музыки, но и романтической взволнованности...
Дурян — волевой, темпераментный дирижер. Он ведет оркестр очень активно. Обладая прирожденным ощущением ауфтакта, он легко добивается слаженности ансамбля, ясности и четкости ритмической основы. Жест его точный, определенный. Но моментами кажется, что Дурян несколько преувеличивает значение опорной точки дирижерской схемы, атаки звука, недооценивая его дальнейшее течение. Видимо, этим в какой-то мере определяется недостаточно певучее, сочное и мягкое звучание оркестра, в частности струнной группы. Кстати, желательно было бы увеличить ее на восемь-десять человек. Но и тогда медь должна помнить, что «победа» в борьбе со струнными — далеко не всегда наилучшее решение вопроса.
Довольно сильная и ровная по составу группа деревянных духовых. Будем надеяться, что ее артисты со временем придут к большей свободе и выразительности фразировки в сольных эпизодах, к более полному слиянию тембров и динамической выравненности голосов при совместной игре.
Прекрасно проявили себя дирижер и оркестр в аккомпанементе солистам. Ансамбль с Гоар Гаспарян достигался без всяких усилий. Певице была предоставлена подлинная творческая свобода, и Гаспарян полностью ею воспользовалась, продемонстрировав в ариях Моцарта, Доницетти и Мейербера высокое мастерство, безукоризненное владение певческим дыханием и законченность отделки. Достойным, чутким партнером талантливой артистки показал себя Л. Алоян (соло флейты).
Хорошо прозвучали Первый фортепианный и Скрипичный концер-
ты Чайковского в исполнении П. Серебрякова и Ж. Тер-Мергеряна.
Публика горячо принимала оркестр, дирижера и солистов.
ШАРЛЬ МЮНШ
Наибольшее впечатление в концертах Шарля Мюнша остается, пожалуй, от воздействия самой личности артиста. Весь его облик дышит спокойной уверенностью и в то же время отеческой благожелательностью. На эстраде он создает атмосферу творческой раскрепощенности. Проявляя твердость воли, требуя, никогда не навязывает свои желания. Сила его — в беззаветном служении любимому искусству: дирижируя, Мюнш отдается музыке целиком. Оркестр, публику он увлекает прежде всего потому, что увлечен сам. Увлечен искренне, радостно. В нем, как и в Артуре Рубинштейне (они почти сверстники), поражает молодой жар души.

На репетиции...
Настоящая горячая эмоциональность, глубокий интеллект, большая жизненная мудрость и юношеская пылкость, свойственные богатой художественной натуре Мюнша, предстают перед нами в каждом произведении все в новых и новых оттенках и сочетаниях. И, право, каждый раз кажется, что преобладает у дирижера как раз то качество, которое наиболее необходимо при исполнении именно данного произведения.
Мюнш не только превосходно знает профессионально-технические возможности, но и самую жизнь оркестра и его участников. Это позволяет ему быстро находить наиболее короткий путь для передачи музыкантам своих намерений.
Очень тонко, графически ясно были сыграны фрагменты сюит из оперы «Дарданус» Рамо. Запомнилось умиротворенное, чуть грустное заключение первой части: с какой музыкальностью, внимательно, неторопливо досказывает и дослушивает Мюнш каждую нотку! «Рондо сна» отличалось исключительной свободой фразировки, разнообразием используемых дирижером «знаков препинания». Волшебно звучал Государственный симфонический оркестр СССР, добившийся тончайшего и в то же время «летящего», «дышащего» pianissimo. Ригодон и «Веселое рондо» покорили изяществом штриха, легкостью и простотой. «Море» Дебюсси прозвучало красочно, свободно. Кульминации были поданы ярко, с блеском истинно драматургического расчета.
Сильно провел Мюнш Вторую симфонию Онеггера, подчеркнув психологическую насыщенность и глубину трагической музыкальной повести. Запомнились тревожная настороженность заключительного раздела первой части и стремительное начало финала, в котором чудился какой-то безумный, панический бег.
Сюита из балета Русселя «Вакх и Ариадна» не показалась особенно содержательной. Нарядно оркестрованная, сыгранная с подъемом, она эффектно завершила программу.
В «Осуждении Фауста» Берлиоза хорошо показал себя Государственный симфонический оркестр СССР. С успехом выступил и Большой хор Всесоюзного радио и телевидения. В этом, несомненно, заслуга его руководителей, проведших подготовительную работу, и прежде всего К. Птицы, который умно и тактично «ассистировал» Мюншу и на концерте. К сожалению, общее впечатление значительно снизилось из-за того, что певцы-солисты на сей раз оставляли желать много лучшего. Ближе всех к намерениям дирижера была исполнительница партии Маргариты Ж. Гейне-Вагнер, но и ее пение не всегда отличалось устойчивостью звука и определенностью интонирования. Тяжелая, затрудненная манера звуковедения у В. Махова как-то уж очень не вязалась с образом Фауста. В особенности это мешало в дуэте с Маргаритой, где певец явно не справлялся с высокими нотами. В. Громадский, конечно, не «впел» еще свою партию, к тому же она для него высока. Неизменный «сарказм», которым он наделял своего Мефистофеля, выглядел откровенным подражанием уже известным образцам и, на наш взгляд, придавал образу оттенок прямолинейности. Большей музыкальной отчетливости, ясности дикции хотелось услышать от М. Рыбы (Брандер). Все это было огорчительно, тем более что «Осуждение Фауста» (да еще с таким дирижером!) ставится у нас очень редко.
В своей книге «Я — дирижер» Мюнш приводит слова Р. Штрауса: «Даже если вы знаете, что дирижировать очень трудно, надо дожить до семидесяти лет, чтобы осознать, насколько это трудно». Вероятно, именно поэтому в свои семьдесят четыре Мюнш дирижирует так легко и обаятельно.
Евг. Рацер
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Праздник песни 5
- О путях развития языка современной музыки 8
- Этапы большого пути 23
- Поговорим откровенно 29
- Музыкальная весна 34
- Рисунок 35
- Дорогой дерзаний 36
- Становление жанра 42
- Бюрократ и смерть 46
- Младшая сестра 48
- На пороге искусства 51
- Встреча с народным искусством 57
- Литовский камерный 60
- Талант и воля 61
- «Ажуолюкас» 62
- О сыгранном 64
- В оперном театре 66
- Всегда в поисках 67
- Ведущий хор республики 67
- Им помогает библиотека 68
- О жанрах, формах и творческом поиске 69
- Встречи с Глазуновым 72
- Моцарт живет во всех нас 87
- Из автобиографии 89
- Сатира в опере 96
- Спустя восемнадцать лет 100
- Гордость художника 104
- В концертных залах 110
- Новая музыка в эфире 120
- Фильм о балерине 121
- В Узбекистане 126
- У композиторов Туркмении 134
- Любомир Пипков 137
- Живое творчество или таинство «эксперимента» 142
- Город живых традиций 146
- На музыкальной орбите 153
- Хроника 159



