ли в педантичные тактоотбиватели») однажды весьма верно заметил моему отцу: «В стремительных аллегро, когда дирижер и оркестр слишком уж "распалятся", искусство дирижирования заключается в том, чтобы точно угадать тот момент, когда можно приостановить слепой стремительный бег, будь то постепенным возвращением к первоначальному темпу или даже обоснованным, но внезапным сдерживанием движения». Подобный момент наступает в ре-мажорном эпизоде финала «Cosi fan tutte»: это спокойное появление доминанты после обеих фермат! С иными «гениями от дирижерской палочки» мне самому приходилось переживать в бетховенских и моцартовских финалах безостановочную сумасшедшую гонку, когда наездник как бы не может совладать с испуганной лошадью, понесшей его. Припомните также постоянную чрезмерную поспешность в финале Четвертой симфонии Бетховена, этом уютнейшем из Аллегретто! Ремарка «весело» отнюдь не означает рекорд скорости!
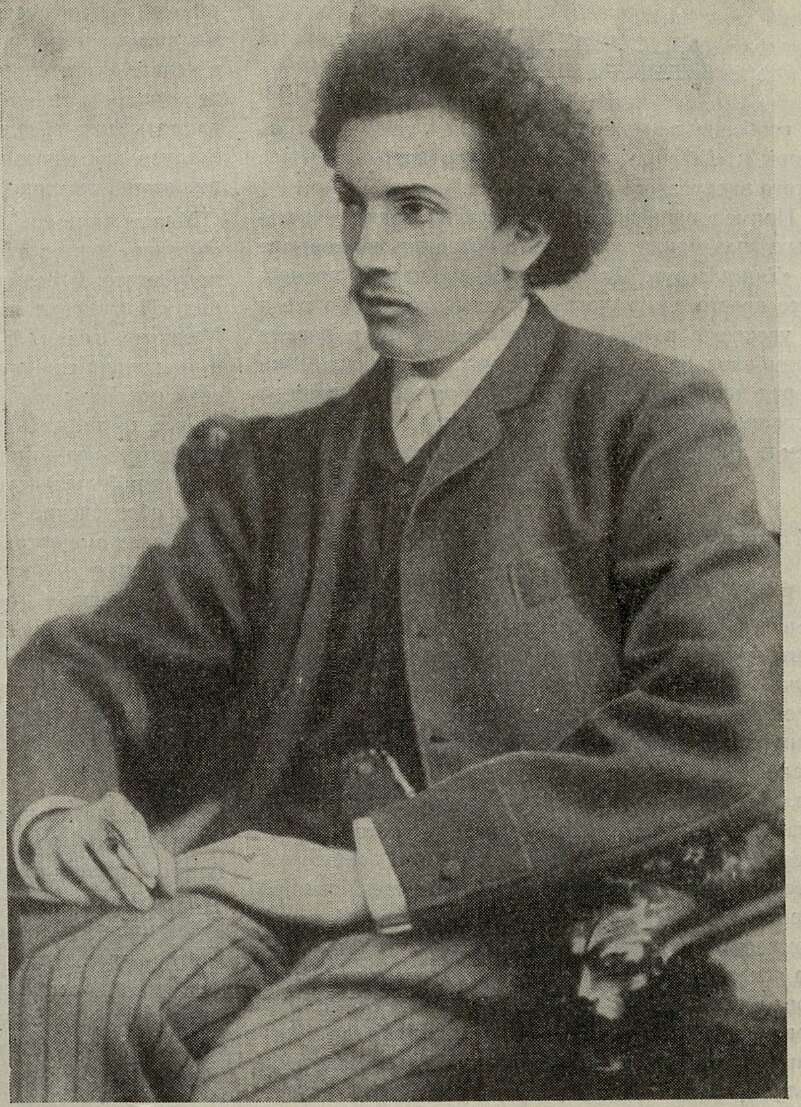
Рихард Штраус. 1890 г., Веймар
Перед моментами напряженности или драматического взрыва (вторые части Четвертой и Пятой симфоний) Бетховен часто вводит словно прелюдирующие «фортепианные пассажи», как бывает у человека, когда он в минуты сильного нервного возбуждения с кажущимся равнодушием постукивает пальцами по столу. Такие «пассажи» надо играть свободно: например заключение Адажио в Четвертой симфонии!
Невыносимым бывает столь излюбленное расширение темпа перед грандиозным фортиссимо. Это такой же дилетантский прием, как и расширение взятых чересчур громко эпизодов в партии медных духовых (например, ми бемоль-мажорный эпизод в Траурном марше из «Гибели богов»)... Темы, расширенные самим композитором, не подлежат еще большему расширению (например, эпизод в партии деревянных духовых в увертюре «Леонора № 3» перед престиссимо). Столь же неприятны бывают замедления в божественных увертюрах Вебера (в переходных тактах ко вторым темам), в особенности же сентиментальные замедления в
увертюре к «Эврианте». А душещипательное растягивание пылкой мелодии
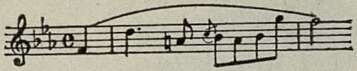
и особенно ля-мажорной побочной темы из увертюры к «Оберону» абсолютно противоречат стилю этого виртуозного произведения.
Пример ошибочного расширения заключительных фраз можно чаще всего встретить в увертюре к «Тангейзеру». До конца выдерживайте полнейшее престо, без какого-либо замедления! То же и в увертюре к «Летучему голландцу»: в партии тромбонов не должно быть никакого расширения перед последним эпизодом мено моссо, он должен исполняться без замедлений, строго в заданном темпе (причем не слишком медленном!).
Моцарт
Есть у Моцарта произведения (главным образом быстрые), в которых большое значение имеет стремительность движения; в таких произведениях певучая побочная тема обычно берется несколько спокойнее (увертюра к «Фигаро», первая часть Симфонии соль минор). Есть пьесы (в основном медленные), где чувство достигает страстного накала (например Анданте в Концертной симфонии для скрипки и альта), интерпретация которых возможна лишь в предельном рубато. Это вообще относится ко многим медленным пьесам Моцарта. Кроме Бетховена, вряд ли есть еще другой такой композитор, темпы которого претерпели бы столько искажений и кто именно в этом отношении требовал бы большей тонкости чувств. Особые требования: обязательно соблюдать алла бреве в Анданте или Адажио. Например, вступительный раздел увертюры к «Дон Жуану», Анданте кон мото — довольно оживленный темп; вторая ария Керубино. В обеих ариях Церлины, во второй половине — никакого нового темпа, безусловно никакого аллегро, поэтому первую половину надо брать уже в несколько более оживленном темпе. То же относится и к дуэту «Дай руку мне, красотка!». Медленные части трех великих симфоний (соль-минорной, ми бемоль-мажорной, до-мажорной) следует воспринимать как бы в четвертях и по возможности так дирижировать; заключительную фразу я обычно расширяю (так же, как и в Анданте великой Симфонии до мажор Шуберта и в Первой Бетховена). Заключительная фуга симфонии «Юпитер» и финал Второй симфонии Брамса — это как раз те случаи, когда рекомендуется сосредоточенная собранность и некоторое расширение темпа в конце очень быстрых фраз. К моцартовской заключительной фуге полностью применима вагнеровская ремарка «как можно быстрее»: в начале второго раздела и в начале третьего раздела части я значительно меняю движение. Чтобы придать фуге абсолютную ясность в темпе престо, следует применить точно размеченные приглушения звучности меди и литавр.
Малер заставлял первые скрипки в первом дуэте «Фигаро» играть стаккато, я же делаю это певуче, полулегато. В девяностых годах, во время репетиции «Похищения из Сераля» в Резиденц-театре в Мюнхене, Козима Вагнер сказала мне: «У вас первые скрипки слишком мало поют». У Моцарта, с его симфонизмом оперного оркестра, первые скрипки всегда должны «вести» и отнюдь не имеют права бесцветно «аккомпанировать». К сожалению, именно так в большинстве случаев трактуют моцартовское обозначение «сдержанность оркестра». В постановках моцартовских опер выдержанные звуки деревянных духовых и высоких валторн почти всегда слишком громки и перекрывают быстрое парландо певцов. Из этого видно, что далеко не всегда учитывается необходимость пианиссимо в партиях этих духовых инструментов. Симфоническую же ткань струнной группы не следует затушевывать и стирать, потому что певцов не только надо сопровождать, но и вести.
Моцарт редко применяет обозначение фортиссимо и очень редко следует понимать его форте в прямом, грубом смысле. Наивысшим законом здесь является красота звучания. В симфонических произведениях Гайдна и Моцарта форте в отдельных партиях мыслится как бы в половину силы звучания тутти, в манере кончерто гроссо, где почти всегда пиано сольных проведений темы чередуются с повторением тутти-форте.
У Моцарта и Гайдна такие тутти-форте уподобляются архитектоническим обрамлениям преисполненных чувства сольных партий; поэтому здесь, эпизоды форте с их натуральными трубами, валторнами и литаврами брызжут жизнерадостностью в отличие от бетховенских, где октавы труб и сфорцато литавр отображают взрывы отчаяния и упрямейшей энергии, лишь изредка смягчаемые более сумрачным и мягким звучанием тромбонов. По-бетховенски используются трубы, валторны и литавры лишь в «Дон Жуане», в сцене с Командором. Без тромбонов звучание было бы еще гораздо более резкое, поэтому их можно было бы и не применять здесь.
Очень сильно различаются сфорцато моцартовские и бетховенские, сфорцато в пиано и в форте.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Лишь о тебе все думы сыновей 5
- Вперед, к новым победам! 7
- Дружбе крепнуть в веках 11
- Шестьдесят лет большому художнику 15
- Впечатления и мысли 23
- По большому счету 27
- В музыкальной Бурятии 30
- По поводу терминологии 33
- Реплика Вл. Протопопову 35
- Молодые годы 38
- Не о том спорим, товарищи! 47
- Традиции и новаторство 52
- О современной опере 56
- Звучит Мусоргский 58
- Чешская премьера 61
- Снова «Конек-горбунок» 66
- Гости из США 69
- «Опера нищих» 75
- Имени советского композитора 80
- Поет «Трембита» 85
- В классе рояля 88
- Шаляпин поет Даргомыжского 93
- Из воспоминаний 102
- Песни Эрнесакса 106
- Кларнет и фагот 107
- Камерный оркестр 107
- Молодые певцы 108
- «Гармония мира» 110
- Письмо из Ленинграда 111
- Болгарские музыканты 113
- Серж Бодо 114
- Молодежный хор 115
- Актер песни 116
- Песня и голубой экран 118
- Письмо в редакцию 120
- Зденек Неедлы — ученый-марксист 122
- Надя Буланже — учитель композиции 126
- Сабин Дрэгой 128
- Четыре дня в Веймаре 132
- Музыкальные встречи 135
- Друзья и враги фольклора 138
- «Книга о советской музыке» 140
- Первый опыт 142
- «Вопросы вокальной педагогики» 144
- Труды чехословацких музыкантов 145
- Альбом легких переложений для фортепиано в четыре руки. Тетради 1, 2 и 3 147
- М. Равель. Сонатина для фортепиано 148
- Новые записи советской музыки 148
- Наши юбиляры: Г. П. Таранов 149
- Наши юбиляры: З. М. Шахиди 150
- Искусство вдохновляет труд 151
- Для тех, кто в море 153
- Сокровищница песен 153
- «Анютины глазки» 154
- Мои планы 154
- Да, сатирическую! 155
- Татарский театр оперы и балета им. Мусы Джалиля 156
- «Катерина Измайлова» 157
- «Царская невеста» 157
- Они пришли в музыкальный театр 158
- Добро пожаловать! 159
- Планы и перспективы 159
- Танцуют челябинцы 160
- Это большая радость 160
- Удача молодой певицы 161
- Премьеры 161
- «Сердце балтийца» 162
- Лиха беда начало 162
- Растет талантливая смена 163
- Наша библиотека 163
- Музей русского балета 164
- Советский балет в репертуаре музыкальных театров за 1963 г. 165
- Памяти ушедших. Л. М. Курганов 166
- Памяти ушедших. И. З. Алендер 166



