
М. Коваль и С. Яковенко
Это размышление о жизни и могучей силе любви. Композитору удалось подчеркнуть особенность поэтической структуры сонетов, выделив афористические заключительные двустишия. И исполнитель оттенил эти части как кульминации каждого монолога.
Слово и музыка, голос и фортепиано слились в органичное целое, раскрывая содержание произведения.
Цикл Б. Шнапера «Сквозь войну» раскрыл иную творческую индивидуальность — молодую, активную, кипучую. Главная тема воплощается здесь не столько в размышлении, сколько в зарисовках жизни, в действенных сценах, человеческих характерах, прошедших через суровое и героическое время Великой Отечественной войны. Солдаты в походе («Идут солдаты»), женщина у переезда, скорбно глядящая «вослед своим сынам» («Тоска, дожди, туман и слякоть»), мужественная песня («Нам не страшно умирать, только мало сделано»), героический подвиг («Он первый встал на берегу крутом»), сцены нелегкого солдатского быта («Живая вода», «День короткий путь далекий», «Вино») и, наконец, возвращение («Простучит по рельсам поезд») — все эти разнохарактерные эпизоды (стихи С. Орлова) обрамлены музыкой «Адажио» (на стихи Д. Кедрина), воплощающей обобщенный образ героя:
Много видевший, много знавший,
Знавший ненависть и любовь,
Все имевший, все потерявший
И опять все нашедший вновь.
В яркой, темпераментной музыке Шнапера бьется пульс нашего времени. В ней отчетливо ощутима опора автора на разнообразную жанровую основу: песня, походный марш, траурное шествие, а наряду с этим и русский пейзаж и динамика мчащегося поезда. Вокальная партия напоена песенностью наших дней. Все это сообщает музыке прелесть простоты, ясность, доступность. Язык ее своеобразен и современен. В превосходном исполнении Яковенко и автора цикл этот стал подлинной кульминацией концерта.
*
Беседин выступал в Малом зале консерватории с произведениями В. Мурадели и Д. Шостаковича (партия фортепиано — С. Берман). У него высокий бас приятного тембра, хороший темперамент. Еще с первых своих выступлений Беседин привлек внимание своеобразной манерой пения, обращением к интересному репертуару, к новым произведениям советской музыки, умением их понять, «донести до слушателей». Поет он эмоционально, искренно, увлеченно. Лирические вещи в его передаче полны непосредственного чувства и сердечности. Эти особенности проявились и в данном концерте. Но выявились и некоторые недочеты. Показалось, что нужна еще «шлифовка» мастерства. Иные досадные «мелочи» отвлекали, от художественно ценного в исполнении. При довольно отчетливой дикции, слова иной раз «пропадали»: подводил низкий регистр, звучавший глуховато, не всегда выразительно. Иной раз певец слишком быстро «выходил из образа».
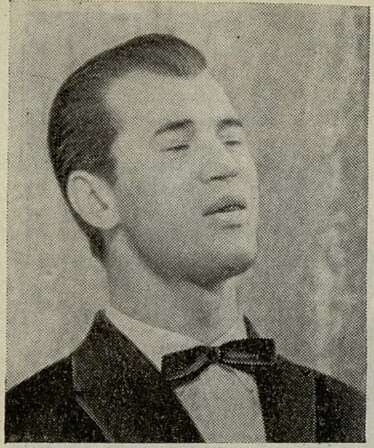
А. Беседин
Быть может, именно эти мелочи и вызвали в начале концерта несколько настороженное отношение слушателей к артисту, несмотря на то, что «Горийские песни» Мурадели были исполнены превосходно.
Цикл этот пленяет своим восторженно-страстным характером, наполненностью пылким и сильным чувством любви, своеобразной распевной красотой восточной мелодии. Некоторые песни Беседин пел как бы размышляя, пел почти целиком на пианиссимо, другие на большом и широком звуке, в открыто экспрессивной манере, полной восторженной патетики, щедро делясь своими чувствами со слушателями.
И аудитория «приняла» певца. Во втором (романсы Шостаковича на слова Пушкина, на слова английских поэтов и «Сатиры» на тексты Саши Черного) «лед» был окончательно сломлен. Исполнением блещущих музыкально-характеристическими находками «Сатир», а также песни «Четыре капуцина» И. Шишова («на бис») Беседин показал комедийную грань своего дарования. И в музыкальном, и в актерском отношении, интерпретация этих произведений была яркой и талантливой. Публика уже не хотела расставаться с артистом и он спел «на бис»: «Бухенвальдский набат» В. Мурадели, «Качайтесь, каштаны» и «Красивые глазки» З. Левиной, «Предостережение» Д. Шостаковича («Из еврейской народной поэзии»).
Концерты Яковенко и Беседина вновь подтвердили, как интересно и содержательно камерно-вокальное творчество советских композиторов, как все более обогащается его тематика, развивается жанровое своеобразие. Концерты эти — хороший урок многим вокалистам, все еще ограничивающим свой репертуар несколькими «верными» ариями и романсами.
М. Риттих
*
«Гармония мира»
Москвичи впервые услышали симфонию Пауля Хиндемита «Гармония мира». Дирижер Геннадий Рождественский посвятил премьеру памяти недавно скончавшегося композитора. За последние годы в концертах Московской филармонии исполнялись его симфония «Художник Матис», «Симфонические метаморфозы на темы Вебера», «Sinfonia serena», «Бостонская симфония». Среди названных произведений «Гармония мира» — одно из самых значительных, и многие не без оснований считают ее вершиной мастерства Хиндемита в области крупных оркестровых форм. Симфония написана в 1951 году, к 25-летию Базельского камерного оркестра, которым руководит швейцарский дирижер Пауль Захер. Это одно из немногих современных сочинений, где ясность общей концепции и виртуозное мастерство оркестрового письма помогают слушателю успешно преодолевать сложности музыкального языка, очень последовательно ограниченного в данном случае принципами своеобразно строгого полифонического стиля. Симфония предъявляет исполнителям высокие требования: здесь необходимы глубокая серьезность, сосредоточеность и в то же время легкость, непринужденность в донесении музыкальной мысли.
Государственному симфоническому оркестру СССР и Г. Рождественскому удалось достичь многого в прочтении нового и нелегкого сочинения. Достаточно сказать, что симфония была понята и по достоинствам оценена публикой с первого раза, а это случается крайне редко с произведениями подобного рода. Гораздо чаще к ним «привыкают» годами, и они становятся понятными и желанными, лишь многократно прозвучав вразных трактовках.
«Гармония мира» своим происхождением связана с одноименной оперой Хиндемита, повествующей о судьбе Иоганнеса Кеплера, одного из основоположников новой астрономии. Ни в опере, ни в симфонии нет попытки перевести научные истины теории Кеплера на язык музыки, хотя именно это наивное намерение нередко приписывалось Хиндемиту. Между тем идея «мировой гармонии» для композитора прежде всего поэтический образ, достаточно обобщенный и многозначащий, чтобы послужить основой концепции крупного симфонического произведения, по существу своему непрограммного. Симфония по-новому концентрирует и переосмысливает музыкальный материал оперы. При этом она свободна от иллюстративности, что отличает и более знакомую нашему слушателю симфонию «Художник Матис». Строй и характер музыки Хиндемита в известной мере чужд сценическим иллюзиям оперного театра, далек от зрительных образов.
Первая часть «Гармония мира» («Musica instrumentalis»), построенная на материале наиболее драматичных оперных сцен и связанная непосредственно с «миром зла», окружавшим Кеплера в его жизненной борьбе, — самая действенная и энергичная часть симфонии. Для исполнения она, однако, труднее других. Форма ее не столь «целенаправленна», как в средней части и финале. В трактовке Г. Рождественского ее исходный «тезис» (первая тема, звучащая вначале у труб, а затем у всех медных) утверждался, как нам показалось, не с той категоричностью и ясностью, как это задумано у Хиндемита; маршеобразные эпизоды первой части, активные и наступательные, звучали недостаточно остро и зло, особенно там, где автор поставил ремарку: «Schnell, laut und brutal». В целом создалось впечатление, что «угрожающий» характер этой части несколько
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Лишь о тебе все думы сыновей 5
- Вперед, к новым победам! 7
- Дружбе крепнуть в веках 11
- Шестьдесят лет большому художнику 15
- Впечатления и мысли 23
- По большому счету 27
- В музыкальной Бурятии 30
- По поводу терминологии 33
- Реплика Вл. Протопопову 35
- Молодые годы 38
- Не о том спорим, товарищи! 47
- Традиции и новаторство 52
- О современной опере 56
- Звучит Мусоргский 58
- Чешская премьера 61
- Снова «Конек-горбунок» 66
- Гости из США 69
- «Опера нищих» 75
- Имени советского композитора 80
- Поет «Трембита» 85
- В классе рояля 88
- Шаляпин поет Даргомыжского 93
- Из воспоминаний 102
- Песни Эрнесакса 106
- Кларнет и фагот 107
- Камерный оркестр 107
- Молодые певцы 108
- «Гармония мира» 110
- Письмо из Ленинграда 111
- Болгарские музыканты 113
- Серж Бодо 114
- Молодежный хор 115
- Актер песни 116
- Песня и голубой экран 118
- Письмо в редакцию 120
- Зденек Неедлы — ученый-марксист 122
- Надя Буланже — учитель композиции 126
- Сабин Дрэгой 128
- Четыре дня в Веймаре 132
- Музыкальные встречи 135
- Друзья и враги фольклора 138
- «Книга о советской музыке» 140
- Первый опыт 142
- «Вопросы вокальной педагогики» 144
- Труды чехословацких музыкантов 145
- Альбом легких переложений для фортепиано в четыре руки. Тетради 1, 2 и 3 147
- М. Равель. Сонатина для фортепиано 148
- Новые записи советской музыки 148
- Наши юбиляры: Г. П. Таранов 149
- Наши юбиляры: З. М. Шахиди 150
- Искусство вдохновляет труд 151
- Для тех, кто в море 153
- Сокровищница песен 153
- «Анютины глазки» 154
- Мои планы 154
- Да, сатирическую! 155
- Татарский театр оперы и балета им. Мусы Джалиля 156
- «Катерина Измайлова» 157
- «Царская невеста» 157
- Они пришли в музыкальный театр 158
- Добро пожаловать! 159
- Планы и перспективы 159
- Танцуют челябинцы 160
- Это большая радость 160
- Удача молодой певицы 161
- Премьеры 161
- «Сердце балтийца» 162
- Лиха беда начало 162
- Растет талантливая смена 163
- Наша библиотека 163
- Музей русского балета 164
- Советский балет в репертуаре музыкальных театров за 1963 г. 165
- Памяти ушедших. Л. М. Курганов 166
- Памяти ушедших. И. З. Алендер 166



