исполнении он не делал различия между премьером и хористом, концертмейстером группы и оркестрантом, сидящим за последним пультом. Однако никогда эта простота отношений не переходила в то, что называется панибратством. Это была деловая простота, исключавшая праздность, суесловие, простота, основанная на высокой требовательности, неизменно напоминающая о необходимости дорожить каждой минутой рабочего времени. В этой простоте был свой артистизм, чуждый всему показному, проявляющийся в максимальной концентрированности творческого процесса и предельной рационализации всех подсобных, чисто технических его элементов.
На этом и вырос авторитет Самосуда, пришедшего в коллектив, по существу, еще безвестным музыкантом, до этого работавшего виолончелистом в оркестре Оперного театра Народного дома, где он был отмечен вниманием Шаляпина, по чьей инициативе его вызволили из «оркестровой ямы» и поставили дебютантом за дирижерский пульт.
Первой серьезной удачей Самосуда как оперного дирижера была «Луиза» — «музыкальный роман» Г. Шарпантье, поставленный Малым оперным театром в ноябре 1920 года. Спектакль получил высокую оценку печати и, в частности, горячий отклик со стороны Б. Асафьева1, что упрочило положение начинающего дирижера. Это была уже третья его самостоятельная работа. Первой была опера Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери» (март 1919 года), второй — «Ромео и Джульетта» Гуно (апрель 1920). Далее самосудовские спектакли в течение долгих лет, вплоть до его перехода в 1936 году на работу в Большой театр Союза ССР, стали своего рода магистральной линией всего репертуара Малегота. Здесь были и русские классические оперы («Моцарт и Сальери», «Майская ночь», «Царская невеста»,
_________
1 «Праздник» — так озаглавил Асафьев свою статью об этом спектакле в газете «Жизнь искусства» (№ 600, от 5 ноября 1920 года).
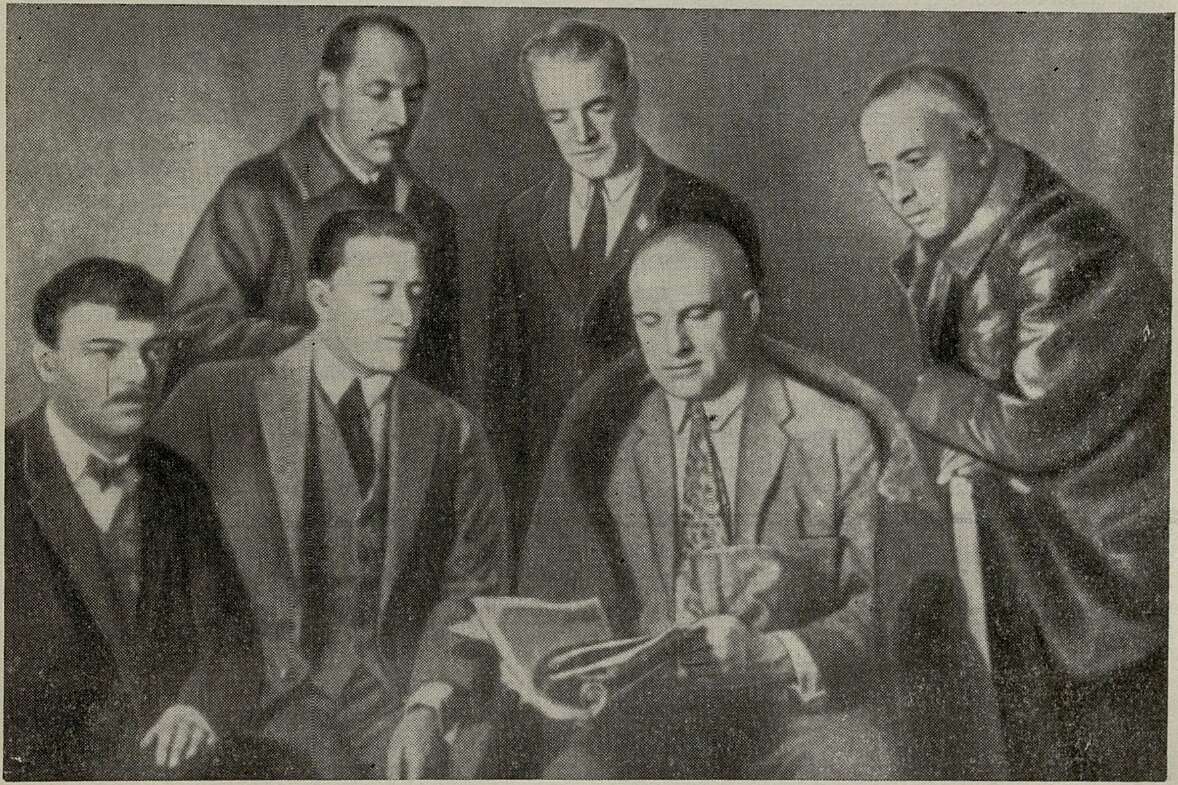
Группа постановщиков спектакля «25-е» по поэме В. Маяковского «Хорошо» 6.XI.27 г.
Сидят С. Самосуд, Н. Смолич, В. Маяковский, стоят Г. Павлов, А. Андреев, В. Всеволодский-Гернгросс
«Золотой петушок», «Снегурочка» Римского-Корсакова, «Иоланта» и «Пиковая дама» Чайковского, «Сорочинская ярмарка» Мусоргского), и западная оперная классика («Похищение из сераля» Моцарта, «Дон Паскуале» Доницетти, «Фальстаф» Верди, «Мейстерзингеры» Вагнера, «Фауст» и «Ромео и Джульетта» Гуно, «Кармен» Бизе, «Тоска» Пуччини), и целая серия оперетт, классических и современных («Цыганский барон» Штрауса, «Прекрасная Елена» Оффенбаха, «Боккаччо» Зуппе, «Там, где жаворонок поет» и «Желтая кофта» Легара, «Клоун» Крауса), и произведения современных зарубежных авторов («Прыжок через тень» и «Джонни наигрывает» Кшенека, «Колумб» Дресселя).
В этом перечне не может не поражать изобилие названий, пестрота жанров, стилей, направлений. То и другое отражало необычайно широкий диапазон поисков молодого театра, стремящегося определить свое художественное лицо, наметить и выработать свой оригинальный метод и стиль. И это в основном было делом инициативы Самосуда, быстро завоевавшего положение руководителя всего коллектива — при этом не только в пределах вопросов, связанных с чисто музыкальной спецификой.
Такое положение было достигнуто отнюдь не административным путем1 и не только в силу занимаемой должности главного дирижера, а затем и художественного руководителя. Он был в полном смысле этого слова душой театра, в котором его можно было найти всегда, в любое время — с раннего утра и до позднего вечера, а иногда и до глубокой ночи — и везде — то в зрительном зале или репетиционных помещениях, то в фойе, дирекции, музее, библиотеке, декорационных мастерских — дирижирующим, слушающим, дающим советы режиссерам, балетмейстерам, художникам и бутафорам, работающим с либреттистами, переводчиками, композиторами: он присутствовал на учебных занятиях вокалистов и на педагогической тренировке отстающих оркестровых музыкантов. На все нужна была виза Самосуда. И это делалось не по приказу и даже не по взаимной договоренности, а лишь в силу безоговорочного авторитета его, как человека, ставшего для всех высшим арбитром в вопросах каждой постановки и судьбы театра в целом, который вскоре стали называть «лабораторией советской оперы». При всей уже отмеченной выше широте исканий коллектив не «распылялся» в применении разнообразных постановочных и исполнительских приемов. Вырабатывая приемы синтетического исполнительства, он творчески сплачивался. От вполне реальной угрозы эклектики его уберегла ответственная и настойчивая работа над созданием новых советских музыкально-сценических произведений, планомерное сотрудничество с большой группой композиторов, драматургов и поэтов. Когда эта задача была осознана театром как основная и главная, все остальные разделы его работы приобрели второстепенный, подсобный по отношению к этой главной задаче характер. С появлением первых советских спектаклей на актуальные революционные темы и постепенным увеличением удельного веса таких произведений стали отпадать, как изжившие себя, целые звенья репертуара, имевшие лишь временное значение.
Удивляла редкостная способность Самуила Абрамовича находить, привлекать, заражать энтузиазмом, «брать в плен» своего личного обаяния людей, нужных его делу. Так завязывались у него «интеллектуальные и творческие романы» с Маяковским, Мейерхольдом, Шостаковичем, Прокофьевым и другими крупнейшими деятелями советского искусства. Иногда такие «романы» лишь намечались, но не получали практической реализации, как это было, например, с Петровым-Водкиным, которого Самосуд намеревался привлечь к оформлению оперы Дзержинского «Тихий Дон». Альянс не состоялся лишь ввиду того, что группа ленинградских композиторов, живших в то время в Детском селе бок о бок с художником, отговорила его от участия в данной работе.
Можно сказать без преувеличения, что в начале тридцатых годов — и это тоже было делом рук Самосуда — Малый оперный театр был своего рода средоточием композиторских и литературных сил Ленинграда и Москвы. На его рядовых спектаклях, на репетициях, за кулисами всегда можно было встретить поэтов, писателей, драматургов, режиссеров, деятелей кино, художников (не говоря уже о композиторах), имевших свободный доступ в
_________
1 Я очень смеялся, когда один вновь назначенный недолговременный директор театра самодовольно объявил мне как представителю печати: «Я короновал Самосуда во всех цехах». На самом же деле «короновал» его сам коллектив, добровольно и убежденно доверившийся его вкусу, уму, воле и такту, и было это еще задолго до появления самонадеянного директора.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Лишь о тебе все думы сыновей 5
- Вперед, к новым победам! 7
- Дружбе крепнуть в веках 11
- Шестьдесят лет большому художнику 15
- Впечатления и мысли 23
- По большому счету 27
- В музыкальной Бурятии 30
- По поводу терминологии 33
- Реплика Вл. Протопопову 35
- Молодые годы 38
- Не о том спорим, товарищи! 47
- Традиции и новаторство 52
- О современной опере 56
- Звучит Мусоргский 58
- Чешская премьера 61
- Снова «Конек-горбунок» 66
- Гости из США 69
- «Опера нищих» 75
- Имени советского композитора 80
- Поет «Трембита» 85
- В классе рояля 88
- Шаляпин поет Даргомыжского 93
- Из воспоминаний 102
- Песни Эрнесакса 106
- Кларнет и фагот 107
- Камерный оркестр 107
- Молодые певцы 108
- «Гармония мира» 110
- Письмо из Ленинграда 111
- Болгарские музыканты 113
- Серж Бодо 114
- Молодежный хор 115
- Актер песни 116
- Песня и голубой экран 118
- Письмо в редакцию 120
- Зденек Неедлы — ученый-марксист 122
- Надя Буланже — учитель композиции 126
- Сабин Дрэгой 128
- Четыре дня в Веймаре 132
- Музыкальные встречи 135
- Друзья и враги фольклора 138
- «Книга о советской музыке» 140
- Первый опыт 142
- «Вопросы вокальной педагогики» 144
- Труды чехословацких музыкантов 145
- Альбом легких переложений для фортепиано в четыре руки. Тетради 1, 2 и 3 147
- М. Равель. Сонатина для фортепиано 148
- Новые записи советской музыки 148
- Наши юбиляры: Г. П. Таранов 149
- Наши юбиляры: З. М. Шахиди 150
- Искусство вдохновляет труд 151
- Для тех, кто в море 153
- Сокровищница песен 153
- «Анютины глазки» 154
- Мои планы 154
- Да, сатирическую! 155
- Татарский театр оперы и балета им. Мусы Джалиля 156
- «Катерина Измайлова» 157
- «Царская невеста» 157
- Они пришли в музыкальный театр 158
- Добро пожаловать! 159
- Планы и перспективы 159
- Танцуют челябинцы 160
- Это большая радость 160
- Удача молодой певицы 161
- Премьеры 161
- «Сердце балтийца» 162
- Лиха беда начало 162
- Растет талантливая смена 163
- Наша библиотека 163
- Музей русского балета 164
- Советский балет в репертуаре музыкальных театров за 1963 г. 165
- Памяти ушедших. Л. М. Курганов 166
- Памяти ушедших. И. З. Алендер 166



