получает легковесное решение: смотрится легко, но верится с трудом. Происходит это потому, что авторы пьесы шли в своей работе не от жизни, а от канонов жанра, заменяя нехватку жизненного материала «типовыми» деталями действия, беззастенчиво перенесенными из старых оперетт.
Вот и думается мне, что сейчас важнее говорить не об угрозе мнимого «крена в драматизацию», а о недопустимом отрыве от реальной жизни, наблюдающемся, к сожалению, в сюжетах некоторых новых оперетт.
В ходе такого разговора мы несомненно прояснили бы действительные причины, тормозящие развитие советской оперетты. Тогда обнаружилось бы, что обилие водевилей и других произведений облегченной драматургии, появившихся в репертуаре за последние годы, вполне естественно порождено слабым знанием жизни и вытекающим отсюда мелкотемьем, а форма, как известно, обычно соответствует содержанию. Стало бы ясно, почему на опереточной сцене не очень полноценно представлен образ современника: сложный и духовно богатый мир нового человека не могут отразить стандартные маски, опереточные амплуа.
Теперь еще об одном, с моей точки зрения, чрезвычайно важном вопросе — о литературном языке современной оперетты. Обращение к стертым опереточным штампам ведет за собой и утверждение соответствующего жаргона с его непроходимой глупостью и откровенной пошлостью. Обиднее всего, что даже молодые и нередко одаренные авторы принимают этот жаргон за один из неотъемлемых признаков пресловутой специфики и молниеносно его «осваивают».
Зная по фельетонам в журнале «Крокодил» В. Константинова и Б. Рацера как литераторов хорошего вкуса, не сомневаюсь, что они зло высмеяли бы текст оперетты «Олимпийские звезды» (музыка В. Соловьева-Седого), если б услышали речь ее героев и... если бы сами не были авторами ее либретто. Вот образцы. Отец уговаривает дочь, влюбленную в бедного спортсмена, выйти замуж за богатого владельца магазина господина Терзини. Дочь возражает: «О, Мадонна! Но он с одной почкой...» Этот довод не смущает отца, и он продолжает убеждать дочь: «...Ты только представь себе: весна, зеленеет травка, у сеньора Терзини распускается последняя почка...» Или «...Все итальянцы лирики: любят лиры...» Или: «...У этих женщин такие короткие юбки, что надо иметь большую силу воли, чтобы смотреть им в глаза...» Или: «...Судите меня, граждане, я недостойна звания советской тещи!..»
Правда, все это произносится на территории Италии. Но вряд ли это может оправдать подобную безвкусицу и грубость.
А вот примеры из оперетты «Седьмое небо» К. Певзнера, В. Есьмана и К. Крикорьяна:
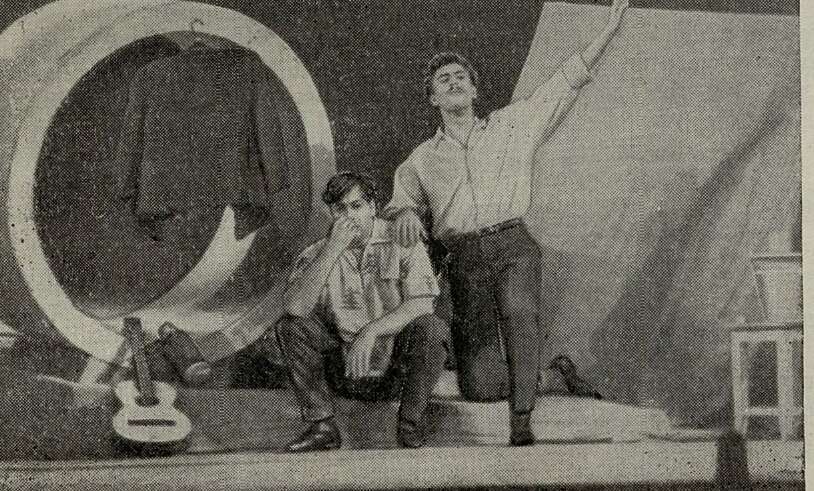
«У моря Обского» Г. Иванова. Умирашкин — Л. Горелик, Отар — Л. Холодков.
Новосибирский театр музыкальной комедии
«...Закуска и выпивка, как сиамские близнецы — они не могут существовать друг без друга...»
«...Обручальное кольцо — это первое звено в кандалах супружеской жизни...»
«...На теле найдено обручальное кольцо. Других следов насилия не обнаружено:..»
«...Это ее слова?
— Ее собственноручные...»
Правда, часть этих «острот» авторами прямо заимствована из старых обывательских анекдотов, конечно, без указания источника, но их пошлость в наши дни стала еще нетерпимее.
Вот и думается мне, что сегодня куда важнее говорить не о нехватке в современных опереточных либретто реприз, а об изобилии грубости и скабрезности, засоряющей язык действующих лиц и, в конечном счете, зрителей. Хотелось бы в ходе такой дискуссии, если она состоится, напомнить, что каждое слово любого персонажа характеризует не только его самого, но и свидетельствует о позиции, вкусах и кругозоре автора.
Не лучше обстоит дело со стихотворной частью опереточных либретто. Сколько еще тут сентиментальной любительщины, перенесенной на современную сцену со страниц древних «Альбомов для стихов»! Как часто кондитерская слащавость и парфюмерная красивость таких вирш окончательно «добивают» героев!
Персонажи, лишенные сколько-нибудь яркого интеллекта, способны совершать поступки самые заурядные, незначительные. Во многих последних опереттах различны места действия: в одном случае это колхоз, в другом — строительство, в третьем — студенческое общежитие, а события почти идентичны. Сюжеты назойливо повторяют одну и ту же незамысловатую историю с весьма незначительными вариациями: двое молодых людей любят друг друга, вдруг одному (или одной) приходит в голову, что другой (или другая) не любит, а потом все же оказывается, что это ошибка и тот (или та) любит. И беда вовсе не в том, что там много внимания уделяется любви. Беда в другом: при обилии разговоров и пения о любви подлинных чувств и мыслей во многих опереттах маловато.
Честно говоря, за последние несколько лет действительно широкое признание получил только «Севастопольский вальс» К. Листова, Е. Гальпериной и Ю. Анненкова. А ведь сюжет его непритязателен, и герои не ахти какие сложные, и смешного не так уж много. По-видимому, крупица подлинной жизненной правды, облеченная в достоверный и волнующий конфликт, открыла «Севастопольскому вальсу» двери всех театров музыкальной комедии.
Вот и думается мне, что сегодня важнее говорить не столько о специфике жанра, сколько о том, как мы им пользуемся.
Очень хорошо, что за последние годы в оперетту пришли наши крупнейшие композиторы. Но это еще не разрешило, да и не могло разрешить всех проблем, связанных с созданием полноценного репертуара. Только в сочетании с хорошей пьесой хорошая музыка приносит советской оперетте подлинный успех. В связи с этим, по-моему, надо в корне пересмотреть отношение театров к литературно-драматургической основе произведений.
В далекие дореволюционные годы, когда не было оригинальной русской оперетты, а тексты для заграничных боевиков стряпались даже не окололитературными, а «околоопереточными» дельцами, естественно, никому и в голову не приходило серьезно задумываться над качеством этой стряпни и уже тем более требовать от нее художественных достоинств. Поэтому, между прочим, в отличие от зарубежной практики у нас стало традицией говорить: «Оперетта Легара», «Оперетта Кальмана», «Оперетта Милютина», — забывая, что равноправными авторами произведений наряду с композиторами, их создавшими, являются и драматурги. Отсюда также по наследству доставшаяся нам привычка считать текст «ничейным» и обращаться с ним как с «бесхозным» имуществом. Каждый актер может спокойно выбросить любой кусок текста или, наоборот, «обогатить» его за счет пронафталиненных реприз, имевших большой успех у наших предков еще в дни открытия первой нижегородской ярмарки; а каждый режиссер с неменьшим спокойствием позволяет себе делать то же самое со всей драматургией в целом.
Пора, наконец, понять, что литературная основа современной оперетты требует от ее создателя не навыков ремесленника, а таланта и мастерства драматурга и поэта. Не случайно лучшие советские оперетты явились результатом совместной работы таких талантливых композиторов, как И. Дунаевский, Ю. Милютин, Б. Александров, В. Соловьев-
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Лишь о тебе все думы сыновей 5
- Вперед, к новым победам! 7
- Дружбе крепнуть в веках 11
- Шестьдесят лет большому художнику 15
- Впечатления и мысли 23
- По большому счету 27
- В музыкальной Бурятии 30
- По поводу терминологии 33
- Реплика Вл. Протопопову 35
- Молодые годы 38
- Не о том спорим, товарищи! 47
- Традиции и новаторство 52
- О современной опере 56
- Звучит Мусоргский 58
- Чешская премьера 61
- Снова «Конек-горбунок» 66
- Гости из США 69
- «Опера нищих» 75
- Имени советского композитора 80
- Поет «Трембита» 85
- В классе рояля 88
- Шаляпин поет Даргомыжского 93
- Из воспоминаний 102
- Песни Эрнесакса 106
- Кларнет и фагот 107
- Камерный оркестр 107
- Молодые певцы 108
- «Гармония мира» 110
- Письмо из Ленинграда 111
- Болгарские музыканты 113
- Серж Бодо 114
- Молодежный хор 115
- Актер песни 116
- Песня и голубой экран 118
- Письмо в редакцию 120
- Зденек Неедлы — ученый-марксист 122
- Надя Буланже — учитель композиции 126
- Сабин Дрэгой 128
- Четыре дня в Веймаре 132
- Музыкальные встречи 135
- Друзья и враги фольклора 138
- «Книга о советской музыке» 140
- Первый опыт 142
- «Вопросы вокальной педагогики» 144
- Труды чехословацких музыкантов 145
- Альбом легких переложений для фортепиано в четыре руки. Тетради 1, 2 и 3 147
- М. Равель. Сонатина для фортепиано 148
- Новые записи советской музыки 148
- Наши юбиляры: Г. П. Таранов 149
- Наши юбиляры: З. М. Шахиди 150
- Искусство вдохновляет труд 151
- Для тех, кто в море 153
- Сокровищница песен 153
- «Анютины глазки» 154
- Мои планы 154
- Да, сатирическую! 155
- Татарский театр оперы и балета им. Мусы Джалиля 156
- «Катерина Измайлова» 157
- «Царская невеста» 157
- Они пришли в музыкальный театр 158
- Добро пожаловать! 159
- Планы и перспективы 159
- Танцуют челябинцы 160
- Это большая радость 160
- Удача молодой певицы 161
- Премьеры 161
- «Сердце балтийца» 162
- Лиха беда начало 162
- Растет талантливая смена 163
- Наша библиотека 163
- Музей русского балета 164
- Советский балет в репертуаре музыкальных театров за 1963 г. 165
- Памяти ушедших. Л. М. Курганов 166
- Памяти ушедших. И. З. Алендер 166



