но Эллера, Эугена и Виллема Каппов и молодых авторов Эйно Тамберга, Яна Коха, Хейно Юрнсалу, Антса Сыбера. А композитора К. Синка, впервые принявшего участие в столь ответственном смотре, можно отнести к «внукам»: он еще учится в Ленинградской консерватории!
К сожалению, в программах пленума отсутствовали имена некоторых талантливых представителей композиторской молодежи — А. Пярта, Я. Ряятса, В. Тормиса, что безусловно обеднило общую картину. Плохо также, что большая часть произведений демонстрировалась в магнитофонной записи, далеко не совершенной... Тем не менее надежды на то, что я услышу немало интересной музыки — всем известно сколь интенсивно развивается музыкальное творчество советской Эстонии, — вполне оправдались.
Обобщая свои впечатления, невольно прежде всего задаешься вопросом, в какой мере современная эстонская музыка отвечает на призыв партии еще больше сблизить творчество с жизнью народа, отобразить нашу борьбу за коммунизм, за счастье всего человечества?
Эстонские композиторы обращаются к большим темам современности — покорение космоса советским человеком, минувшая война и борьба за мир, наша молодежь, ее мечты и дерзания. Это радует.
Но важно не только то, о чем пишут композиторы Эстонии, но и как они это делают.
За последние годы в творчестве композиторов многих наших республик развиваются интересные и глубоко положительные процессы. Речь идет о значительном расширении рамок национальной музыкальной культуры, о создании новых национальных традиций, которые становятся также традициями всей советской музыки. Обогащается содержание, образный строй музыкальных произведений, их интонационный язык, ладогармоническое мышление.
Можно привести немало примеров того, как при «передаче эстафеты» от одного композиторского поколения к другому рождаются новые выразительные средства, «пласты» интонаций, гармонические и оркестровые приемы. Всем известны заслуги Уз. Гаджибекова — основоположника профессиональной музыки Азербайджана. Его благотворное влияние на творчество молодых азербайджанских композиторов не подлежит сомнению. Но несомненно и то, что в творчестве К. Караева, Ф. Амирова и других представителей композиторского коллектива республики есть немало стилистических особенностей, которых не было и не могло быть в творчестве автора «Кёр оглы». Я имею в виду не только отдельные элементы художественной речи. Тут нужно говорить о новом стилистическом качестве.
Все это приводит к тому, что сегодня меняется понимание национальной специфики музыки — оно теперь стало гораздо более свободным и глубоким. Помню, лет десять тому назад один эстонский композитор рассказывал, как его музыку критиковали за то, что она «слишком темпераментна» и в силу этой причины «недостаточно национальна». Сейчас едва ли кто станет утверждать, будто такие качества, как темпераментность, энергичность, эмоциональный накал, могут быть присущи лишь творчеству грузинских или армянских авторов и противопоказаны творчеству северян. Столь же неверно считать, что новые гармонии, рожденные реалистической музыкой XX века, соответствуя национальной природе русского музыкального творчества, «не соответствуют» природе украинского или белорусского.
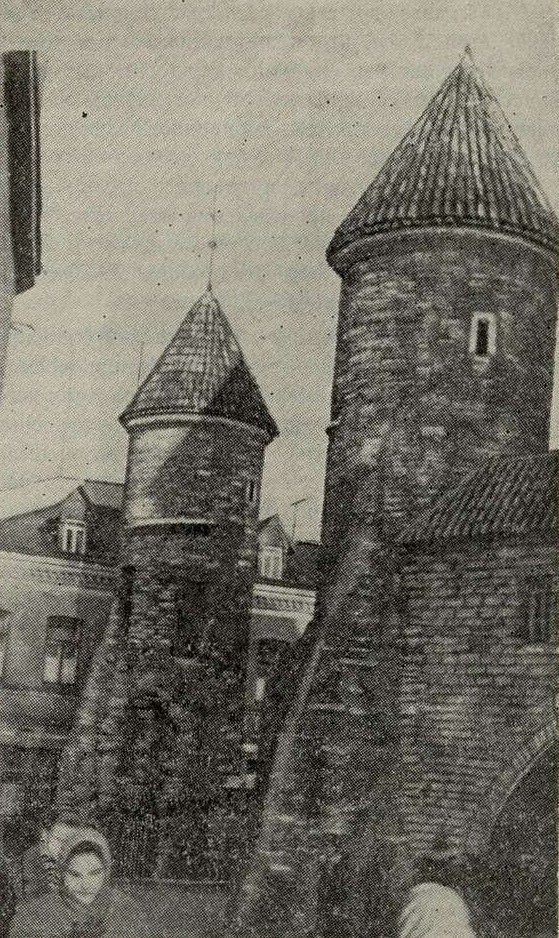
Уголок старого Таллина
Чем больше думаешь об этих вопросах, тем яснее становится, что наши национальные музыкальные культуры, сохраняя свою самобытность, вместе с тем сближаются друг с другом на основе общих эстетических принципов социалистического реализма.
Процессы, о которых я говорил, весьма ярко проявились в ряде произведений эстонских композиторов. Особо мне хочется выделить «Лунную ораторию» Э. Тамберга (слова Я. Кросса) и Фортепианный концерт Я. Коха.
Советские композиторы еще только начали осваивать грандиозную тему завоевания космоса человеком. Э. Тамберг в своей оратории нашел принципиально интересный путь решения этой сложной задачи. Серьезный, вдумчивый художник, он менее всего стремился создать некую «звездную феерию» со всякого рода красивостями и дешевой «космической бутафорией». Не привлекала его и наивная, хотя и претендующая на глубокомыслие символика (тенденции такого рода имеют место в некоторых произведениях, посвященных той же теме). Л. Нормет верно писал о том, что автор «Лунной оратории» задался целью воплотить «страстность и глубину творческой мысли человека»1. Да, именно человечность подкупает нас в его музыке, интеллектуально богатой и вместе с тем наполненной большими благородными чувствами. Есть в ней какая-то особая значительность, слушая ее, все время ощущаешь, что автор повествует об огромных, из ряда вон выходящих событиях.
Тема оратории раскрыта в разных планах, автор находит различные повороты музыкального «действия». Здесь и дерзновенный порыв, и лирические размышления, и веселая, окрашенная в юмористические тона застольная песня. Произведение сочетает приемы своеобразной «космической хроники» с чертами романтической поэмы. Есть в нем также изобразительность, но она в большинстве случаев играет относительно скромную, подчиненную роль. Когда-то О. Респиги воспользовался записанным на грампластинку пением соловья, и оно стало деталью музыкального ночного пейзажа. А нынче Э. Тамберг ввел в ораторию звуковые радиосигналы искусственного спутника Земли — вполне оправданный изобразительный штрих!
Содержание «Лунной оратории» требовало от композитора поисков новых художественных средств. Оратория звучит свежо, необычно. Скажу несколько слов о мелодии, которая открывает и завершает произведение (ее цитирует Л. Нормет в своей статье). Это своеобразная, сугубо хроматическая тема. В ее причудливо таинственном звучании чудятся черная пустота безмерного пространства, далекое мерцание звезд. Да, тут нет ни мажора, ни минора. Но было бы ошибочно предположить, что Тамберг придерживается атонального метода. Уже в первых тактах намечен опорный звук as, который потом переходит в басовый голос и становится тональным центром. А в следующей далее «теме мечты» мелодия приобретает Аs-dur'ный характер. Не только здесь, но и в других эпизодах автор отнюдь не порывает с классическими закономерностями музыкального мышления.
На пленуме справедливо отмечалось, что симфоническая драматургия «Лунной оратории» не свободна от существенных недостатков. Это признал и сам автор. Он сознательно усложнил стоящую перед ним композиционную задачу, попытавшись совместить не только различные яркоконтрастные образы, но и различные жанры (ораторию он соединил с жанром музыкально-театрального спектакля). При этом композитор не смог преодолеть некоторой дробности, фрагментарности изложения. Если лирические эпизоды развиты очень широко, то героико-патетическая «тема радости» преждевременно обрывается: дан тезис, а развития его нет. В финале слишком частые реплики чтецов рвут музыкальную ткань, мешая автору высказать до конца свои музыкальные мысли. Может быть, поэтому отсутствует финальная кульминация, утверждающая основную идею оратории. Остается впечатление, что композитор много, увлекательно говорил о подвигах советских людей, покоряющих космос, но так и не сказал «последнего», самого весомого слова.
Фортепианный концерт Я. Коха не новинка, но мне довелось услышать его в первый раз. В концерте, как и оратории Тамберга, звучит голос нашего времени. Музыка захватывает энергией, непреодолимым напором, в ней безмерная любовь к жизни. Смелые сочетания фортепиано и различных оркестровых инструментов усиливают эмоциональный накал; тембры здесь выполняют выразительные функции, подчеркивают внутреннюю напряженность музыкальной речи. В концерте, вопреки традициям, только две части, причем финал — наиболее драматически бурный раздел цикла.
Не пытаясь подробно анализировать произведение, которое слушал всего один раз, я позволю себе все же заметить, что, на мой взгляд, уязвимая сторона концерта — не вполне органичная форма. Что-то мешает двум частям слиться
_________
1 «Советская музыка», № 10, 1963 г., стр. 26.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- За высокую партийность искусства 5
- Уважать культуру своего народа 10
- Праздники и будни 12
- Предлагают участники пленума 13
- Быть достойными учителями 17
- К 75-летию Л. Н. Ревуцкого. Юбиляра поздравляют 22
- Умное мастерство 34
- Две обработки 36
- Патриотическая эпопея 38
- Таллинские впечатления 42
- Необходима реформа 47
- Преодолеть застой 49
- Воспитывать всесторонне 52
- Из писем Н. А. Римского-Корсакова к сыну 54
- Есть ли границы у жанра? 65
- Младшая сестра? — Нет, старшая! 69
- Размышления после премьеры 71
- Вдохновение и мастерство 79
- Спасибо Вам! 81
- Владимир Валайтис 83
- На международных конкурсах: Имени Шумана 87
- На международных конкурсах: Имени Лонг и Тибо 89
- Рядом с Держинской 93
- Играет Артур Шнабель 96
- В концертных залах 101
- От слов — к делу 110
- Музыкальному вещанию — высокую культуру 113
- Второе призвание маршала 118
- Энрике Гранадос 122
- Курт Зандерлинг в Берлине 127
- Заметки о «Варшавской осени» 130
- Трагедия западногерманской культуры 132
- Тема обязывает 136
- Коротко о книгах 141
- Наши юбиляры: И. Ф. Бэлза, Х. В. Валиуллин, А. И. Островский 148
- Хроника 151



