циальности. Спрашивается, может ли каждый студент-музыковед в дальнейшем стать равноценным лектором для большой аудитории и глубоким исследователем, педагогом и публицистом, администратором-организатором и квалифицированным редактором? Возможно ли, чтобы он в одинаковой мере хорошо проявлял себя во всех областях музыковедческой деятельности? Думается, что это удел немногих — лучших, наиболее талантливых. Сказанное не исключает того, что мы обязаны всех студентов вне зависимости от их личной одаренности воспитывать разносторонне, учитывая запросы нашей современности. Однако нельзя проходить мимо того несомненного факта, что большинство из них становится по окончании вуза педагогами. И в этом принципиально нет ничего плохого: в них нуждается огромная сеть музыкальных училищ нашей страны.
Исходя из этого, Ленинградская консерватория в виде опыта решила ввести разграничение в контингент студентов-музыковедов: на третьем курсе обучения устанавливается, кто из учащихся по своим данным склонен скорее к педагогической работе, а кто проявляет способность к более широкой музыковедческой деятельности. Для первых, учитывая острую нужду в педагогических кадрах, определяется четырехгодичный учебный план; они заканчивают консерваторию сдачей государственных экзаменов без защиты диплома. Что же касается тех, кто проявил себя разностороннее и ярче, то для них в рамках существующего плана добавляется, к сожалению, еще только один, пятый год обучения, который посвящается как написанию диплома, так и совершенствованию навыков в других областях своей специальности.
Неслучайно мы оговорились: «к сожалению, еще только один, пятый год обучения», ибо нам кажется, что для этих, особо зарекомендовавших себя студентов желателен не один, а два дополнительных года. Формы и занятия в течение этих двух лет должны быть возможно более разнообразными, способствующими еще лучшей подготовке студентов к их будущей сложной по содержанию деятельности. В частности, обучение в консерватории необходимо сочетать с практической стажерской работой (лекторской, редакторской, публицистической и т. д.) в различных музыкальных учреждениях.
При таком дифференцированном подходе к студентам, естественно, еще более возрастает роль индивидуального руководителя по специальности. Ныне студент, а вместе с ним и педагог чуть не три года «в поте лица своего» трудятся над дипломной работой. Все же другие области музыковедческой специальности остаются вне поля зрения руководителя, поскольку они «рассредоточены», то есть поручены другим педагогам. Однако в образовании музыковедов конвейерной системы быть не может! Кто, как не индивидуальный руководитель, призван всесторонне воспитывать, скажем сильнее, пестовать будущего музыковеда? Кто, как не он, может и должен помочь полностью проявиться дарованию студента, найти те или иные формы занятий, наиболее соответствующие его склонностям? Именно он, руководитель, в первую очередь определит также, кто из учеников в дальнейшем станет педагогом, а кто заслуживает дополнительных лет обучения.
Конечно, остается много нерешенных вопросов. Но, думается, именно дифференцированный подход к студентам, обучающимся на музыковедческом отделении, может дать верный ключ к решению многих из них.
НАСЛЕДИЕ
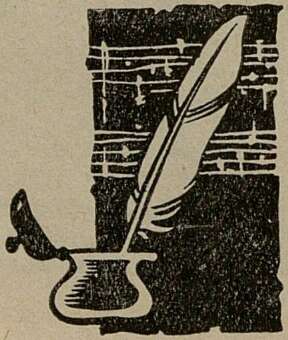
Из писем Н. А. Римского-Корсакова к сыну
В Ленинграде в Государственном. институте театра, музыки и кинематографии бережно хранятся уникальные автографы, письма, ценные документы, обширная иконография и мемориальные предметы, принадлежавшие русским и зарубежным композиторам и музыкальным деятелям.
Особенно богат материалами фонд Н. А. Римского-Корсакова и его семьи, известный под названием «Семейный архив Римских-Корсаковых». Он был основан по решению Советского правительства в 1944 году в ознаменование столетия со дня рождения композитора. Наиболее ценной частью архива является, естественно, фонд самого Н. А. Римского-Корсакова, содержащий большое количество нотных рукописей и свыше 800 писем композитора к родителям, жене, брату и детям.
После фонда Н. А. Римского-Корсакова наибольший интерес представляет фонд его сына Андрея Николаевича Римского-Корсакова (1878–1940) — известного советского музыковеда, доктора философии. Так же как и все в семье, он с детских лет занимался музыкой — играл на виолончели, позже заинтересовался теоретическими вопросами музыкального искусства. А. Н. Римский-Корсаков издавал журнал «Музыкальный современник» (1915–1917), он подготовил к печати сборник «М. П. Мусоргский. Письма и документы» (1932), сделал описание музыкальных сокровищ Рукописного отдела Государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина (1938). Ему же принадлежит пятитомное жизнеописание своего отца — «Н. А. Римский-Корсаков. Жизнь и творчество» (1933–1946).
В эпистолярном разделе фонда А. Н. Римского-Корсакова числится 600 корреспондентов; среди них имена не только выдающихся музыкальных деятелей, но и представителей других областей искусства и науки. Особенно же интересна переписка с ним его отца.
Настоящая публикация дает лишь самое первоначальное представление о богатстве Семейного архива Римских-Корсаковых.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- За высокую партийность искусства 5
- Уважать культуру своего народа 10
- Праздники и будни 12
- Предлагают участники пленума 13
- Быть достойными учителями 17
- К 75-летию Л. Н. Ревуцкого. Юбиляра поздравляют 22
- Умное мастерство 34
- Две обработки 36
- Патриотическая эпопея 38
- Таллинские впечатления 42
- Необходима реформа 47
- Преодолеть застой 49
- Воспитывать всесторонне 52
- Из писем Н. А. Римского-Корсакова к сыну 54
- Есть ли границы у жанра? 65
- Младшая сестра? — Нет, старшая! 69
- Размышления после премьеры 71
- Вдохновение и мастерство 79
- Спасибо Вам! 81
- Владимир Валайтис 83
- На международных конкурсах: Имени Шумана 87
- На международных конкурсах: Имени Лонг и Тибо 89
- Рядом с Держинской 93
- Играет Артур Шнабель 96
- В концертных залах 101
- От слов — к делу 110
- Музыкальному вещанию — высокую культуру 113
- Второе призвание маршала 118
- Энрике Гранадос 122
- Курт Зандерлинг в Берлине 127
- Заметки о «Варшавской осени» 130
- Трагедия западногерманской культуры 132
- Тема обязывает 136
- Коротко о книгах 141
- Наши юбиляры: И. Ф. Бэлза, Х. В. Валиуллин, А. И. Островский 148
- Хроника 151



