самым широким обобщениям. Увы, приходится констатировать, что трудность проблематики оказалась не под силу Бергер. С первых же строк она признает, что нельзя объять необъятное и старается убедить в «нерезультативности» постановки вопроса об идейном содержании произведений Шостаковича. Несколько дальше Бергер утверждает нечто обратное, опровергая не только самое себя, но и не к месту приведенное высказывание Гёте. Мысли, подчас взаимно исключающие, перемежаются с перепевами общих мест о способности Шостаковича «воплощать подлинную жизнь», об «исполинском охвате», «общечеловечности» и пр. и пр. На стр. 349 Бергер неожиданно заключает: «Казалось бы, ясна ведущая идея творчества композитора — гуманистическое обличение социальной несправедливости, высокая гражданственность». Однако, тут же добавляет автор, дело вовсе не в гуманизме и гражданственности, эти черты-де свойственны были и искусству предшествующих эпех. «Новые тайны выразительности музыки Шостаковича», оказывается, лежат в чем-то ином (в чем, читателю остается неясным). Но позволительно тут же спросить: можно ли возводить гуманизм в некую абстрактную внеисторическую, лишенную конкретного содержания категорию? Разве гуманизм, стимулирующий движение за мир, — это гуманизм Эразма Роттердамского? А борьба против последствий культа личности, восстановление ленинских норм нашей жизни — разве не проявляется в этом гуманизм нашей партии, нашего времени?
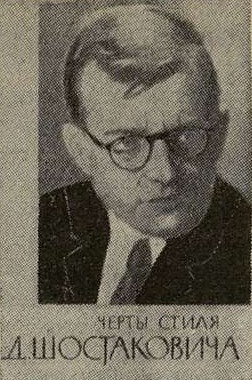
Обнажение беспощадного лика фашизма, обжигающая боль за попранного челевека, тревога за судьбы мира, за настоящее и будущее человечества — не в этом ли пафос творчества Шостаковича — мыслителя, гуманиста? Безусловно! Ни один из композиторов XX века не отзывался с таким мужеством, художнической честностью на самые острые проблемы нашего времени, не запечатлевал в образах музыкального искусства действительность во всей ее столь трудной и сложной противоречивости. Здесь заложена сила общественного воздействия творчества Шостаковича, здесь «секреты», «тайны» его новаторства. В этом смысле искусство Шостаковича действительно сродни Баху, Бетховену — величайшим гуманистам-новаторам. А, по Бергер, выходит, что наиболее примечательно и «симптоматично» для музыки Шостаковича, «что она запечатлевает неуловимый эмоционально-мыслительный процесс», что его музыка, «включает слушателя в интимный эмоциональный и мыслительный внутренний мир художника», «черты глубокой и сложной психологической выразительности... обращают на себя внимание в музыке Шостаковича». В ней «постоянно живет чуткий глубинный импульс психологической тонкости...» (стр. 350, 352). Сквозь туман «глубинных тонкостей» и пышной фразеологии явственно проступает основная тенденция: психологичность — одна из многочисленных граней музыки Шостаковича — преподносится автором статьи как ее сущность. Легковесность суждений приводит к однобокому, обедняющему искусство Шостаковича освещению.
Непонятно также, зачем понадобилось Бергер разводить «водяные узоры» на том, что уже было сказано достаточно компактно и четко в статье Мазеля (об истоках, преемственности, связях музыки Шостаковича — стр. 5, 6, 7). Вот как это выглядит у Бергер: «Композитор берет (разрядка моя. — В. Г.) нужные ему классические средства выражения типических эмоциональных состояний, типические образы и выразительные приемы музыки разных эпох и представляет их в новом, современном освещении» (стр. 351). Нет нужды комментировать подобные откровения. Печально лишь то, что они слишком многочисленны.
О некоторых специфических особенностях формы произведений Шостаковича можно узнать из статей А. Должанского, Вл. Протопопова, В. Фрумкина.
Работа Должанского состоит из ряда в разное время написанных статей, иных — законченных, других — только фрагментарных, вплоть до «разрозненных реплик», из которых первая, «об одноименных тональностях», — около одной странички печатного текста — действительно только «реплика», а последняя, «О параллелизме в фугах», — по существу не что иное, как краткая рецензия на второе издание книги В. Золотарева «Фуга». Целесообразно ли публиковать в тематическом сборнике отрывочные высказывания и незавершенные работы?
Цель рецензируемой книги в том, чтобы с помощью музыкальной науки глубоко проникнуть в творческий процесс, постичь столь сложное явление, как музыка Шостаковича.
Статья Должанского «О ладовой основе сочи-
нений Шостаковича», написанная в 1947 году, достаточно известная в среде музыковедов, была в числе первых «экспериментов», ставящих задачей определить и систематизировать новые закономерности в ладо-модуляционной структуре музыки Шостаковича.
Этот интересный опыт стимулировал последующие острые дискуссии по проблеме современного ладогармонического мышления. Как утверждает автор, его точка зрения по сей день остается неизменной.
Исходное положение теории Должанского — полимелодизм как главная особенность музыкальной ткани произведений Шостаковича. Отсюда же, делает вывод Должанский, тяготение композитора к старинным ладам, из которых произрастают новые «лады Шостаковича». Старинные названия ладов сохраняются, но к ним прибавляются количественные показатели: дважды пониженный фригийский, дважды пониженный эолийский, трижды пониженный фригийский и т. п. На энгармонизме альтерированных ступеней лада Должанский формирует новую систему аккордовых и тональных связей, которая, как говорит ее автор, «дает ключ к обнаружению в произведениях Шостаковича не только отдельных новых ладообразований... но и к осмыслению новых модуляционных связей...» (стр. 42). Трижды пониженным и хроматизированным ладом от звука ля бемоль (энгармонически соль диез) определяет, например, Должанский ладовую структуру побочной партии Десятой симфонии, одновременно оспаривая суждения некоторых теоретиков о политональности и о соль мажоро-минорной основе этой темы. Несомненно, в данном случае, как и во многих других, приходится иметь дело с образованием нового сложного лада, отстоящего далеко от политональности, но и не укладывающегося в мажоро-минорную систему.
Слов нет, пытаться объяснить все звуковые сочетания и их движение в современной музыке исключительно с позиций классической гармонии и ее нормативов — изживший себя консерватизм. Однако отказываться от простых решений только потому, что явление в целом сложное, также представляется крайностью. Начнем с того, что обращение Шостаковича к старинным ладам, которое Должанский трактует как индивидуальную особенность, — явление общее для всей современной музыки. Процесс «обратного внедрения» старинной диатоники в мажороминорную систему начался еще в первой трети XIX века и мирно уживался с усиленным ростом хроматизма. Нет нужды приводить примеры музыки многих зарубежных и русских композиторов-классиков: они общеизвестны. Скачок, приведший к новым ладовым образованиям, действительно произошел в музыке XX века. Но далеко не всегда в современной и особенно в советской музыке всестороннее расширение красочно-выразительных ресурсов мажоро-минорного комплекса затрагивает «субстанцию» самой системы. Так обстоит дело с некоторыми темами и в произведениях Шостаковича, которые Должанский приводит в качестве образцов мутации лада. Только чисто умозрительным путем можно, например, обнаружить в теме главной партии Седьмой симфонии некий ладовый конгломерат, составленный из ионийского, лидийского, миксолидийского ладов и мелодического минора. Слуховое же восприятие фиксирует до мажор не только как устойчивую основу лада, но и как центр ладово-интонационного тяготения. Слышимые ладотональные сдвиги происходят в пределах того же до мажора и, как правильно отмечает Вл. Протопопов, в общем интенсивном развитии темы служат средством «постоянного мелодико-ладового обновления основного тематического ядра» (стр. 93).
Уязвима классификация «ладов Шостаковича». Искусственным представляется «подтягивание» к старинным диатоническим ладам современной хроматики, «противопоказанной» самой их природе. Отсюда проистекает громоздкость терминологии, вроде «эолийский дважды пониженный мелодический лад» (стр. 40), а для лада, в котором написана тема Десятой симфонии, названия так и не нашлось. Кстати, здесь, на страницах одной книги, по поводу этой темы столкнулись четыре точки зрения. Какая же дает наибольшее приближение к истине. Вместо ответа укажем на ценную работу Ю. Холопова «О современных чертах гармонии Прокофьева»1. В ней весьма обстоятельно и последовательно развертывает Холопов теорию единой хроматической системы, сложившейся в современной музыке в результате синтезирования всех существовавших ранее ладотональных систем. Поскольку в этой теории есть элементы универсальности, она представляется нам более конструктивной.
Статья Должанского «О композиции первой части Седьмой симфонии» также содержит много спорного. Односторонне утверждение автора, в котором разновидности сонатной формы определяются лишь теми или иными тональными соотношениями главной и побочной партий:
_________
1 Черты стиля С. Прокофьева. «Советский композитор», М., 1962, стр. 253–311.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- За высокую партийность искусства 5
- Уважать культуру своего народа 10
- Праздники и будни 12
- Предлагают участники пленума 13
- Быть достойными учителями 17
- К 75-летию Л. Н. Ревуцкого. Юбиляра поздравляют 22
- Умное мастерство 34
- Две обработки 36
- Патриотическая эпопея 38
- Таллинские впечатления 42
- Необходима реформа 47
- Преодолеть застой 49
- Воспитывать всесторонне 52
- Из писем Н. А. Римского-Корсакова к сыну 54
- Есть ли границы у жанра? 65
- Младшая сестра? — Нет, старшая! 69
- Размышления после премьеры 71
- Вдохновение и мастерство 79
- Спасибо Вам! 81
- Владимир Валайтис 83
- На международных конкурсах: Имени Шумана 87
- На международных конкурсах: Имени Лонг и Тибо 89
- Рядом с Держинской 93
- Играет Артур Шнабель 96
- В концертных залах 101
- От слов — к делу 110
- Музыкальному вещанию — высокую культуру 113
- Второе призвание маршала 118
- Энрике Гранадос 122
- Курт Зандерлинг в Берлине 127
- Заметки о «Варшавской осени» 130
- Трагедия западногерманской культуры 132
- Тема обязывает 136
- Коротко о книгах 141
- Наши юбиляры: И. Ф. Бэлза, Х. В. Валиуллин, А. И. Островский 148
- Хроника 151



