женного по другую сторону столицы, а вдоль Чудского. Если ошибка допущена в самом оригинале, то надлежало дать разъяснение в примечаниях. Кстати, в примечаниях говорится, что Дерпт — это нынешний Тарту, но современное название упомянутого на той же странице Ямбурга (Кингисепп) не приведено.
Обратим внимание на описку в комментариях (стр. 191): Adagio из бетховенской Сонаты ор. 31 № 2 ошибочно названо третьей (а не второй) частью сонаты. Но это детали. В целом же работа — ценный вклад в отечественную шуманиану.
Б. Штейнпресс
Исполнительское искусство зарубежных стран. Составление и редакция переводов Г. Эдельмана. Вып. I, Музгиз, М., 1962, 175 стр., тираж 11 000 экз.
Сборник «Исполнительское искусство зарубежных стран», в который вошли высказывания о музыкальном искусстве трех крупнейших артистов XX века — Бруно Вальтера, Мариан Андерсон и Ферруччо Бузони, привлек к себе внимание широкого круга читателей.
Личность выдающегося немецкого дирижера и художника-гуманиста Бруно Вальтера, его прогрессивные эстетические и музыкально-общественные воззрения, его музыкальное credo, его ценнейшие практические наблюдения и обобщающие суждения, возникшие в процессе дирижерской работы в оперных театрах и в симфонических оркестрах, — все это запечатлено в примечательной книге «О музыке и музицировании», почти полностью опубликованной в рецензируемом сборнике (отлично выполнен ее перевод ныне покойным Н. Аносовым).
Опираясь на собственный опыт, Вальтер подробно говорит об естественных стадиях формирования молодого музыканта. Уже в самом начале книги, в главе «Я» и «другие», очень убедительно показано, как меняется отношение ребенка, отрока и юноши к музыке, к музыкальному произведению и к музыкальному исполнению. В начале своего развития даровитый ребенок увлекается самим процессом игры, радуется возможности проявлять себя, свои чувства в звуках и ритмах. На следующей стадии развития отношение юного музыканта к искусству исподволь меняется: начинается постепенный и сложный процесс постижения мысли «другого». И лишь со временем композитор и его творчество становятся в сознании музыканта «главенствующей силой». Перестанет ли молодой исполнитель на этой стадии своего развития проявлять свое собственное «я», не наступит ли «безропотное подчинение чужим намерениям»? Ответом на все эти вопросы, по мнению автора, «может быть только выразительное «нет!»
Думается, мысли Бруно Вальтера весьма актуальны: только в том случае, если педагог, работая с молодежью, не будет забывать об этих естественных психологических стадиях формирования молодого музыканта, он, педагог, сможет помочь развитию личности своего питомца.
Заметим в этой связи, что подобным вопросам посвящены многие страницы труда Бруно Вальтера, ибо «только музыкант — это лишь полумузыкант» (стр. 60). В частности, он призывает музыкантов никогда не забывать «о самом главном: жить и переживать — значит познавать мир и людей» (стр. 62); не терять свежести восприятия и свежести чувства; не позволять себе погрязнуть в рутине. «Есть люди, — пишет Бруно Вальтер, — для которых жизнь каждое утро начинается заново... Но есть и такие, кто, глядя на великолепнейший закат солнца или слушая "Benedictus" из бетховенской Торжественной мессы, едва ли чувствуют что-либо, помимо "все это мне уже давно известно"» (стр. 65).
Читатель не пройдет мимо интересных рассуждений Бруно Вальтера о внешней и внутренней музыкальности, между которыми он не считает возможным проводить четкой границы. К первой, то есть к внешней музыкальности, автор относит прежде всего превосходный слух, легкость музицирования, свободное чтение с листа, умение транспортировать и ряд других профессиональных способностей. Но все эти замечательные качества не свидетельствуют еще о музыкальном таланте, о музыкальной одаренности, о
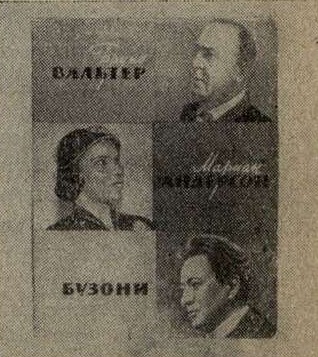
внутренней музыкальности. И лишь тот, кто способен сердцем и разумом глубоко почувствовать и понять содержание музыки, то есть человеческие переживания, отраженные в ней, обладает, по мнению автора, внутренней музыкальностью. Эти взгляды Бруно Вальтера перекликаются с интереснейшими мыслями Н. А. Римского-Корсакова о способностях и таланте, о которых у нас нередко, к сожалению, забывают1.
Хочется верить, что многих наших музыкантов, особенно педагогов, заставят серьезно задуматься страницы книги Бруно Вальтера, посвященные «точности» исполнения, преднамеренной объективности трактовки, верности «букве», с одной стороны, и раскрытию внутреннего содержания произведения — с другой. «Понятие точности, относящееся, собственно, к области техники, — с горечью пишет автор, — постепенно сделало карьеру в музыкальном искусстве и победно шествует по концертным эстрадам... Кое-кто... полагает, что безукоризненная точность исполнения — едва ли не самая существенная часть задачи интерпретатора... Фанатик точности, вероятно, совершенно не сознает, что он недооценивает внутреннее содержание произведения либо небрежно к нему относится; он будет возмущен, если слышит подобный упрек» (стр. 73). Дойдут ли эти мудрые слова замечательного дирижера, направленные против формализма в исполнительском искусстве, до сознания тех, пусть и немногочисленных, наших молодых музыкантов, которые надеятся «точностью» — одной лишь «точностью» проложить себе путь если и не в искусстве, то по крайней мере на очередном конкурсе?
Много пользы извлекут для себя, читая «О музыке и музицировании», и оперные режиссеры. Мысли, высказанные автором в разделе «Музыка и театр», о факторе времени в опере и о принципах постановки оперных спектаклей оказываются в ряде случаев близкими воззрениям К. Станиславского.
Исключительный интерес представляют конкретные замечания выдающегося художника об исполнении отдельных произведений (например, о «взаимозависимости темпа и исполнения» в первой части ля-минорного Фортепианного концерта Шумана), особенно «Заметки об исполнении «Страстей по Матфею» Баха», в которых интерпретатор любого сочинения Баха найдет много для себя поучительного.
Спокойная и мягкая манера изложения своих мыслей покидает Бруно Вальтера лишь в самом конце его труда на страницах «Послесловия», где речь идет об атонализме и додекафонии. С гневом обрушивается он на тех музыкантов, которым «не хватает музыкальной одаренности» и которые именно в силу этого «искусственно создали для себя особую область творчества», на тех, пусть и исключительно талантливых, композиторов, которые позволили себе совершить «роковое превращение искусства в искусственность, музыки в немузыку...» (стр. 116); наконец, на тех почитателей музыкального формализма, которых он именует «филистерами модернизма», снобами, принимающими в искусстве «новое только потому, что оно ново» (стр. 117).
Главы из автобиографии Мариан Андерсон — выдающейся певицы современности, хорошо известной советским слушателям по ее концертам в СССР в середине 30-х годов, — составляют вторую часть рецензируемого сборника. Этим главам предпослано лаконичное предисловие Г. Шнеерсона, в котором вкратце охарактеризована вся книга. В опубликованном на русском языке небольшом ее фрагменте (хорошо переведенном Н. Милицыной) Андерсон не стремится к широкому обобщению или к глубокому анализу своего опыта и своих наблюдений; она ведет безыскусственный рассказ о пройденном пути, позволившем ей от «естественного, бездумного» пения перейти к «сознательному, взятому под контроль», о певческом голосе, о языке песен, о своей манере отбирать и разучивать исполняемые пьесы...
Опубликованные главы содержат бесспорно ценный материал, который заинтересует каждого певца. Вместе с тем страницы автобиографии характеризуют обаятельную личность самой Андерсон, ее любовь к своему народу и его культуре.
Третья и последняя часть сборника отдана Ферруччо Бузони. Г. Коган, отлично знающий наследие Бузони, отобрал из его литературных и музыкальных трудов ряд отдельных, сравнительно небольших высказываний о пианистическом мастерстве, тщательно перевел отобранное, распределил весь материал по рубрикам, снабдил их заголовками («Достоинства и недостатки фортепиано», «Качества, необходимые пианисту», «Игра на память», «Опасность догматического отношения к знакам и традициям» и т. д.) и предпослал своей работе введение, в котором дал сжатую характеристику деятельности итальянского художника. Наша молодежь мало знакома с содержательными и во многом новаторскими высказываниями Бузони о пианистическом искусстве. Поэтому маленькая «хрестоматия по Бузони» несомненно принесет пользу пианистам-профессионалам. Но хрестоматийный метод, избранный со-
_________
1 А. Н. Римский-Корсаков. Н. А. Римский-Корсаков, жизнь и творчество. Вып. III, Музгиз, М., 1936, стр. 21–22.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- За высокую партийность искусства 5
- Уважать культуру своего народа 10
- Праздники и будни 12
- Предлагают участники пленума 13
- Быть достойными учителями 17
- К 75-летию Л. Н. Ревуцкого. Юбиляра поздравляют 22
- Умное мастерство 34
- Две обработки 36
- Патриотическая эпопея 38
- Таллинские впечатления 42
- Необходима реформа 47
- Преодолеть застой 49
- Воспитывать всесторонне 52
- Из писем Н. А. Римского-Корсакова к сыну 54
- Есть ли границы у жанра? 65
- Младшая сестра? — Нет, старшая! 69
- Размышления после премьеры 71
- Вдохновение и мастерство 79
- Спасибо Вам! 81
- Владимир Валайтис 83
- На международных конкурсах: Имени Шумана 87
- На международных конкурсах: Имени Лонг и Тибо 89
- Рядом с Держинской 93
- Играет Артур Шнабель 96
- В концертных залах 101
- От слов — к делу 110
- Музыкальному вещанию — высокую культуру 113
- Второе призвание маршала 118
- Энрике Гранадос 122
- Курт Зандерлинг в Берлине 127
- Заметки о «Варшавской осени» 130
- Трагедия западногерманской культуры 132
- Тема обязывает 136
- Коротко о книгах 141
- Наши юбиляры: И. Ф. Бэлза, Х. В. Валиуллин, А. И. Островский 148
- Хроника 151



