Протопопов известен как теоретик и многоопытный педагог. Тем более удивительна та литературная «неловкость», которой отмечены многие страницы его работы. В некоторых случаях тяжеловесность построения фраз затемняет самую мысль. Например: «...в круг рассматриваемых явлений включаются как произведения, основанные на противопоставлении различных образов, так и произведения, где драматизм вырастает (разрядка моя. — В. Г.) из лирико-психологического содержания (?) одного образа посредством глубокого переосмысления первоначального характера музыкальных тем» (стр. 88). Уяснить смысл можно, но трудно. Понятия образа и темы здесь идентичны. Затем: драматизм не может вырастать из лирико-психологического содержания, а сама лирика не может быть не психологической. Мало вразумительны и такие обороты речи и термины, как «психологический драматизм», «почти программность содержания» или «подобная близость возникает в силу направленности на отображение психологического мира человека и массы людей».
Кроме упомянутых статей, есть ряд других. Иные из них вызывают живой интерес мастерством анализа, тщательной продуманностью исследуемой проблемы, новизной постановки вопроса. К ним относятся: «Оркестровка мелодических (солирующих) голосов в произведениях Д. Д. Шостаковича» М. Бера, «О фуге до мажор» Л. Мазеля, «Несколько наблюдений над ритмикой Шостаковича» В. Холоповой. Но дальнейший обзор статей сборника существенно не изменяет общей характеристики рецензируемой книги.
Самый серьезный ее недостаток — отсутствие специальных разработок по философско-эстетическим проблемам. Тем не менее книга несомненно полезна для музыкантов-специалистов, которые найдут здесь материал для размышлений и дальнейших исследований. Этот сборник, как и некоторые другие, свидетельствует о том, что советские музыковеды работают разобщенно, что отсутствует метод коллективной работы по одному широко очерченному плану, который включал бы большой круг проблем, в первую очередь проблем общеэстетических. Современные науки, в том числе и гуманитарные, не могут разрешить стоящих перед ними задач без организованных усилий творческих коллективов.
Нам кажется, что постоянное участие Союза советских композиторов в координации исследований в области советской музыки является не только его правом, но и обязанностью.
В этом смысле перед Всесоюзной музыковедческой комиссией может открыться новая плодотворная сфера деятельности.
Коротко о книгах
Д. Житомирский. Роберт и Клара Шуман в России. С приложением фрагментов из русского путевого дневника Клары Шуман. Музгиз, М., 1962, 183 стр., тираж 20 000 экз.
В 1844 году Роберт Шуман сопровождал жену в ее концертной поездке в Россию. Во время путешествия он вел ежедневные записи. По возвращении на родину Клара Шуман изложила свои впечатления в форме путевого дневника. В основу литературного труда она взяла записи мужа. «Ты, дорогой Роберт, — писала Клара во вступлении к мемуарам, — должен быть ко мне снисходительным, если я часто все списываю из твоего путевого дневника».
Фрагменты из отчета Клары Шуман в русском переводе П. Печалиной были напечатаны в «Советской музыке» лет десять назад. В более полном виде они вошли в небольшую, приятно оформленную (художник — И. Тимофеев) книгу Д. Житомирского «Роберт и Клара Шуман в России».
Дневник содержит ценные сведения о гастролях пианистки в Петербурге и Москве и о раннем знакомстве русской публики с музыкой Шумана. Читатель найдет здесь немало интересных фактов из музыкальной жизни русских столиц, меткие характеристики музыкальных деятелей. Тут и отзыв о Петербургской Певческой капелле («самый прекрасный хор, какой нам когда-либо приходилось слышать»), и описание московской постановки первой оперы Глинки, и любопытные зарисовки быта.
Обе столицы произвели на гостей неизгладимое впечатление. В Петербурге, пишет Клара, они «восторгались этим — по словам Роберта — чудо-городом», прекрасным видом на Неву, великолепием Зимнего дворца, богатствами Эрмитажа. В Москве их больше всего поразил Кремль. «Каждое посещение Кремля обогащало и вдохновляло творческое воображение Роберта; перед нашими глазами открывались все новые красоты». «Москва — единственный в своем роде город,
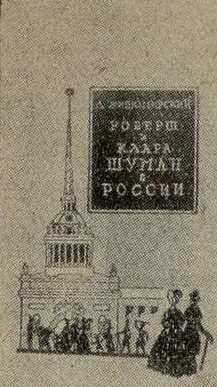
во всей Европе нет ничего подобного», «Мы видели сегодня Москву в последних лучах солнечного заката. Какое великолепное зрелище!»
Московские впечатления побудили Р. Шумана написать несколько стихотворений. Три из них напечатаны в приложении к фрагментам дневника — «Колокол Ивана Великого», «Бонапарт в Москве» и «Французы под Москвой» (перевод Л. Озерова).
Дневник К. Шуман публикуется в качестве дополнения к маленькой монографии Д. Житомирского «Роберт и Клара Шуман в России». Опираясь на публикацию дневника и на собственные разыскания в печати, Житомирский освещает пребывание четы Шуман более полно и точно по сравнению с прежними работами на эту тему (В. Стасова, Н. Финдейзена, В. Комаровой). Он убедительно, на конкретном материале, опровергает мнение Стасова о том, что гастроли 1844 года не сыграли никакой роли в русской популярности Р. Шумана. Автор справедливо подчеркивает заслуги братьев Виельгорских, этих истинных энтузиастов серьезной музыки, оказавших радушный прием и деятельную поддержку приезжим музыкантам. Письма и дневники Роберта и Клары Шуман полны восторженных отзывов о Виельгорских как людях и музыкантах.
Очерк Житомирского охватывает и вторую поездку К. Шуман в Россию, уже после смерти композитора. «Рядом с Кларой, — пишет автор, — не было теперь Шумана, но она застала в России его славу».
Основное содержание монографии Житомирского посвящено Шуману; в центре исследования музыка Шумана в России. Специальная глава написана на тему об отношении русской музыкальной школы к творчеству автора «Крейслерианы». В книге даны сводка и критический разбор высказываний выдающихся русских композиторов и музыкальных писателей, проводятся интересные, содержательные параллели идейно-эстетических позиций, художественных устремлений и самого творчества, начиная от современников Шумана и вплоть до Прокофьева. Исследователь выделяет то прогрессивное, что роднило корифеев русской музыки с великим немецким романтиком, и вместе с тем не обходит исторически обусловленных противоречий, вдумчиво анализируя их.
В работе Житомирского ясности и проницательности суждений отвечает точность и живость изложения. Кое-что можно оспорить. Так, например, теоретически шатко и не соответствует реальному историческому процессу положение, что реализм и романтизм «всегда находятся в теснейшей связи» и «являются гранями единого ощущения жизни и искусства» (стр. 59). Направленное против упрощенного представления о непримиримости этих понятий, это положение в свою очередь упрощает проблему. Какой же смысл в таком случае приобретает выделение творчества Шумана и его братьев по романтической школе в особое направление?
Пожалуй, Кларе Шуман уделено в монографии меньше места, чем это обязывает тема. Автор приводит выдержки из русских рецензий и верно оценивает игру замечательной пианистки. Но желательно было бы привлечь для характеристики ее исполнительского облика более широкий круг отзывов современников. Тогда правильно намеченная тема о различных типах интерпретации шумановской музыки (К. Шуман, А. Рубинштейн, Ф. Лист) получила бы более прочную основу.
В примечаниях к основному тексту и фрагментам дневника приводятся биографические и библиографические справки. Непонятно только, почему к одним фамилиям (Арнольд, Маурер, Гензельт и т. д.) даются комментарии, а другие (например, Иоганнис, Геништа, Шоберлехнер) остаются без пояснений. Из-за отсутствия необходимой справки известная певица Бартенева (она неточно названа Бартеньевой — очевидно, с немецкого!) предстает перед читателем только как фрейлина императрицы.
Университетские концерты возникли в Петербурге не в 1847 году, как сказано в примечаниях (стр. 185), а еще до приезда четы Шуман, в 1842 году.
В самом дневнике К. Шуман имеются ошибки, которые необходимо было оговорить в комментариях. Так, видного скрипача Аматова (Афанасия Макарьевича), солиста и ансамблиста (в квинтете Шумана он играл партию альта), Клара Шуман называет виолончелистом. В таком амплуа он фигурирует и в указателе имен. Хозяина музыкального магазина в Москве К. Шуман именует Ленгольфом. Вероятно, это Ленгольд — владелец известной музыкальной фирмы.
В дневнике сказано: «Сегодня ехали вдоль Ладожского озера и значительную часть пути до самой Нарвы по берегу залива» (стр. 120). Путешественники накануне выехали из Дерпта, направляясь в Петербург. Ясно, что их санный путь пролегал не вдоль Ладожского озера, располо-
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- За высокую партийность искусства 5
- Уважать культуру своего народа 10
- Праздники и будни 12
- Предлагают участники пленума 13
- Быть достойными учителями 17
- К 75-летию Л. Н. Ревуцкого. Юбиляра поздравляют 22
- Умное мастерство 34
- Две обработки 36
- Патриотическая эпопея 38
- Таллинские впечатления 42
- Необходима реформа 47
- Преодолеть застой 49
- Воспитывать всесторонне 52
- Из писем Н. А. Римского-Корсакова к сыну 54
- Есть ли границы у жанра? 65
- Младшая сестра? — Нет, старшая! 69
- Размышления после премьеры 71
- Вдохновение и мастерство 79
- Спасибо Вам! 81
- Владимир Валайтис 83
- На международных конкурсах: Имени Шумана 87
- На международных конкурсах: Имени Лонг и Тибо 89
- Рядом с Держинской 93
- Играет Артур Шнабель 96
- В концертных залах 101
- От слов — к делу 110
- Музыкальному вещанию — высокую культуру 113
- Второе призвание маршала 118
- Энрике Гранадос 122
- Курт Зандерлинг в Берлине 127
- Заметки о «Варшавской осени» 130
- Трагедия западногерманской культуры 132
- Тема обязывает 136
- Коротко о книгах 141
- Наши юбиляры: И. Ф. Бэлза, Х. В. Валиуллин, А. И. Островский 148
- Хроника 151



