всю историю кубинской музыки от времен завоевания острова испанцами и вплоть до 40-х годов нашего столетия. Высокий уровень исследования и тщательная документированность (по свидетельству автора, «работа была осуществлена почти полностью на основе документов, полученных «из первых рук») увеличивают научную ценность книги. Сравнительно небольшой объем, простота изложения, живость и образность языка делают ее доступной и для широкого круга любителей музыки.
Менее всего будучи бесстрастным летописцем-фактографом, Карпентьер нигде не ограничивается простым перечислением фактов и событий музыкальной жизни. Он стремится вскрыть их внутреннюю взаимосвязь, «установить непрерывность развития кубинской музыки и кубинской музыкальной культуры с самого начала их существования». Отсюда то постоянное внимание, которое автор уделяет исторической обстановке данной эпохи, анализу экономических и политических факторов, влиянию на музыкальный фольклор страны многочисленных иммиграций самого различного этнического состава и т. п. Такой метод позволяет Карпентьеру наряду с анализом основной темы затронуть ряд интереснейших проблем, связанных с формированием различных музыкальных культур Латинской Америки (проблема индейского наследия, роль негритянской музыки, традиции Старого Света, вопросы ассимиляции различных культур и другие). В этом одно из главных достоинств монографии, объективно выходящей далеко за рамки простого «очерка истории кубинской музыки», как скромно называет автор свой труд.
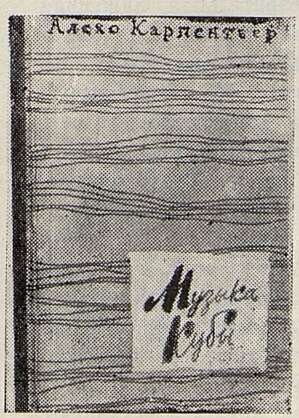
На протяжении всей книги в поле зрения читателя находятся две тесно переплетающиеся линии: формирование и эволюция народной кубинской музыки и зарождение на ее основе профессионального композиторского творчества. Последовательно и убедительно показывает Карпентьер, как, в частности, расцвет на Кубе народного контрданса, ставшего «первым жанром острова», подготавливает почву для появления контрдансов Саумелла и Сервантеса — основоположников кубинской национальной музыкальной школы, а «открытие» музыкального афрокубанизма стимулирует творчество крупнейших композиторов Кубы XX века А. Рольдана и А. Катурлы. Исключительно интересны лаконичные, но яркие характеристики деятельности Н. Эспадеро и Г. Вильяте, Г. Томаса и «Группы музыкального обновления», вскрывающие различные аспекты связи кубинской профессиональной музыки с европейской. Ценный исторический материал содержится в начальных главах, знакомящих с музыкальным бытом первых европейских поселенцев острова, с бытовавшими на Кубе в XVI–XVII веках песенными и танцевальными жанрами, с культурной жизнью Гаваны и Сантьяго. Эти главы, насыщенные интересными фактами, написаны живо и увлекательно, и единственно, о чем можно пожалеть, что именно этот раздел книги подвергся при переводе особенно значительному сокращению.
Большое внимание уделяет Карпентьер выявлению типичных национальных черт кубинской народной музыки. На Кубе, где, по словам Ф. Ортиса, «в течение трех веков...смешивались, переливаясь всеми оттенками, мелодии, танцы и песни Андалусии, Америки и Африки» и где этнический состав населения исключительно пестр и многообразен, фольклор в разные периоды своего развития не мог быть единым. Восстанавливая по документам музыкальную атмосферу прошлых веков и прослеживая эволюцию основных песенных и танцевальных форм от романсов Испании «золотого века» к креольским контрдансам эпохи Саумелла и до афрокубинских румб и дансонов наших дней, автор наглядно показывает, как из отдельных распыленных повсюду ритмических, интонационных и иных элементов постепенно складываются основополагающие черты национального стиля, колорита (cubanidad) народной кубинской музыки, являющейся общим достоянием белых и негров, креолов и мулатов. Исторический, эволюционный характер понятия cubanidad — важный вывод, к которому объективно приходит Карпентьер. Чрезвычайно ценен для латиноамериканского искусствоведения и выдвигаемый автором тезис о необходимости изучения музыки континента «не по районам или странам, а по географическим зонам, подверженным одним и тем же влияниям этнического порядка, одним и тем же внутренним миграциям ритмов и устных традиций». Так, в частности, включение в орбиту исследования музыкального фольклора соседнего с Кубой Санто-Доминго позволило Карпентьеру более полно осветить генезис и эволюцию некоторых чисто кубинских музыкальных жанров.
В то же время целесообразно обратить внима-
ние читателя на некоторые частные положения книги, которые требуют критического к себе отношения.
Так, подчеркивая огромное влияние музыкального искусства негритянского народа на формирование музыкального фольклора Кубы, Карпентьер в ряде случаев рассматривает это влияние слишком прямолинейно. Это приводит к тому, что зачастую автор видит «африканское» в том, что в действительности является уже «афроамериканским», то есть продуктом взаимодействия негритянских и креольских элементов на американской почве. Эта ошибка относится, в частности, к многочисленным креольским парным танцам семейства сарабанды и чаконы, в том числе к тем, которые впоследствии дали начало румбе (чистая африканская хореография на американском континенте не знала парных танцев). Иногда (например, при разборе «Крестьянской колыбельной» А. Катурлы, стр. 122–123) в высказываниях автора проскальзывает упрощенное представление о синтезе креольских и негритянских элементов как о механическом соединении «креольских мелодий с негритянскими ритмами». Такие взгляды были широко распространены в американской фольклористике 30–40 лет назад, но в настоящее время подобная проблема требует более глубокого анализа, не говоря уже о том, что нельзя ограничивать влияние негритянской музыки на креольскую только ритмической сферой.
Можно было бы сделать еще ряд оговорок, например, не согласиться с довольно парадоксальным заявлением автора о мелодической скудости, статичности креольской музыки Кубы (стр. 110–111) или пожалеть о том, что в характеристике музыкального афрокубанизма недостаточно четко показана общекубинская сущность этого явления (глава «Афрокубанизм»), Однако эти и подобные им недочеты относятся к числу второстепенных и не снижают высокой научной и познавательной ценности монографии.
Необходимо оговорить еще следующее. В предисловии от издательства подчеркивается как неприемлемая мысль Карпентьера о том, что «профессиональное музыкальное творчество какой-либо страны не может развиваться исключительно в зависимости от фольклора», что «это лишь переходный этап». «Здесь, — говорится по этому поводу в предисловии, — вызывает возражение уже мысль о «зависимости» профессионального творчества от фольклора как о чем-то стесняющем, ограничивающем его развитие» (и т. д., стр. 4). Это возражение основано на недоразумении, и достаточно внимательно прочесть хотя бы те страницы, откуда взята цитата (стр. 126–128), чтобы убедиться, что далее в предисловии взглядам Карпентьера противопоставлены...его же собственные. Под «зависимостью» профессионального творчества от фольклора здесь имеется в виду одна из наиболее специфических и актуальных проблем, стоящих перед молодыми композиторскими школами большинства стран Латинской Америки: проблема преодоления так называемого «фольклорного этапа», который характеризуется чисто этнографическим использованием фольклора (в виде цитатных вставок и инкрустаций) и ограничением конструктивных форм и жанров профессиональной музыки образцами, существующими в народном творчестве (песни, вариации, рапсодии, трехчастные циклы). Именно эту зависимость Карпентьер и называет «переходным этапом», справедливо добавляя, что в свое время «переход этот был достаточно неизбежен и стал необходим для всех, музыкальных школ Европы» (стр. 127).
*
Несколько слов о самом переводе. Литературная сторона его оставляет самое приятное впечатление. Переводчику удалось сохранить в русском тексте живость и непринужденность стиля, которые отличают испанский оригинал. Однако точность перевода не везде удовлетворительна. Правда, в большинстве случаев это касается легко исправимых при чтении мелочей, но местами неточность ведет к искажению смысла. Так, на стр. 19 говорится о «примитивных танцах», перенесенных с Пиренейского полуострова. В действительности же речь идет о «танцах, первоначально перенесенных» с Пиренейского полуострова в Америку. Та же самая ошибка повторяется на стр. 21: сарабанда утратила, опять-таки, не «примитивный», а «первоначальный» характер. На стр. 53 музыка И. Сервантеса охарактеризована как «умозрительная, лишенная всякой мишуры». В данном случае под música medular следует понимать не умозрительную (что совершенно не свойственно И. Сервантесу), а просто «содержательную», «серьезную», то есть лишенную салонно-виртуозной мишуры музыку. Особенного внимания при переводе требуют специфические термины, не имеющие прямых соответствий в русском языке. Так, на стр. 21 танцы, давшие начало румбе, фигурируют как «непарные танцы». Между тем, согласно принятой в латиноамериканской фольклористике классификации, танцы de pareja desenlazada (или de pareja suelta) обозначают тип парных танцев, в которых партнеры — мужчина и женщина — танцуют
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- В борьбе за нового человека 5
- Творить для народа во имя коммунизма 11
- Романтика подвига 26
- Слышать время! 29
- К 60-летию А. И. Хачатуряна. Юбиляра поздравляют 33
- Юбиляра поздравляют 34
- Юбиляра поздравляют 35
- Юбиляра поздравляют 35
- Юбиляра поздравляют 36
- Юбиляра поздравляют 36
- Юбиляра поздравляют 37
- Юбиляра поздравляют 38
- Юбиляра поздравляют 38
- Юбиляра поздравляют 39
- Юбиляра поздравляют 39
- Художник мира 39
- С любовью к жизни 44
- Шесть часов… 46
- Говорит Арам Хачатурян 57
- «Валькирия» 63
- «Украденное счастье» 67
- «Свет и тени» 69
- Возвращаясь к спору о «Китеже» 72
- Вдохновенный мастер 76
- Я помню чудное мгновенье 77
- Наш друг 79
- Незабываемое… 80
- Ее ученица 81
- Музыка больших чувств 95
- Песни и танцы Татарии 96
- Слушая «Соловья» 98
- Письмо из Ленинграда 99
- Поэт виолончели 101
- Гости из Турции 102
- Москвичи аплодируют 103
- Необыкновенный дуэт 105
- Бриттен рассказывает 106
- Планировать творчески! 110
- Не пора ли? 114
- В единстве с режиссером 116
- Песня о дружбе 118
- Кубинский дневник 120
- Музыкант революции 125
- За пультом Росица Баталова 127
- Письмо из Америки 129
- У нас в гостях чехословацкие музыканты 130
- Новое о Прокофьеве 131
- Как мы помогаем слушателям? 132
- Рассказ о певце свободы 137
- Книга о кубинской музыке 138
- Наши юбиляры. Р. К. Габичвадзе 142
- Наши юбиляры. Г. С. Лебедев 142
- Наши юбиляры. Т. С. Маерский 143
- В смешном ладу 145
- Международный калейдоскоп 149
- У композиторов Татарии 151
- Вести из Литвы 151
- Они приняты в союз 153
- Брошюры по эстетике 153
- Хоровой музыке — зеленую улицу 153
- Новый узбекский балет 154
- Античные герои на оперной сцене 154
- Они поют в Болгарии 155
- Авторский вечер М. Коваля 156
- Говорят директоры издательств 156
- Говорят директоры издательств 157
- Гости столицы 158
- Опере — жить 159
- Летом в парках столицы 160
- Директор был прав… 161
- Встречи с читателями 162
- Новые назначения 163
- Наши «пятницы» 163
- Кончаловский — музыкант 164
- Премьеры 165
- Памяти ушедших. С. Л. Бретаницкий 166
- Памяти ушедших. К. К. Пигров 166
- Памяти ушедших. Б. Б. Тиц 166



