ресовать многим конкурсантам, да, пожалуй, и не только им... Не имея возможности детально разобрать выступления всех участников соревнования, остановлюсь лишь на некоторых; и пусть не в обиду, а на пользу послужат молодежи мои, быть может, излишне требовательные оценки.
Первой премии среди женских голосов была удостоена Елена Образцова, студентка 3-го курса Ленинградской консерватории. А ведь голос ее не отличался ни большой силой, ни особой звучностью — она получила высокую оценку за музыкальность исполнения, за умение пользоваться разнообразными вокальными красками, за темпераментность, хорошую речь и дикцию. Ее сокурсница Ирина Богачева получила вторую премию. У Богачевой еще нет крепкой позиции звука: арии Далилы и Марфы сегодня еще не по силам студентке, несмотря на то, что она обладает большим голосом красивого тембра. Молодая артистка Львовского театра Нинель Ткаченко получила третью премию. Мне очень понравилась эта певица в ариозо Кумы из «Чародейки»; она поет разнообразно и интересно; ее сильное драматическое сопрано весьма выразительно, и тем более неоправданна излишняя форсировка верхов, которая влечет за собой потерю мягкого красивого тембра.
Второй премии среди мужчин были удостоены трое. Один из них, Юрий Мазурок, — аспирант Московской консерватории, обладающий красивым, херошо поставленным голосом, ровно звучащим во всех регистрах. В его исполнении, совершенном с чисто технической стороны, хотелось бы ощутить больше артистизма, внимания к тексту.
Солист Большого театра Марк Решетин, к сожалению, выступил с репертуаром несколько чуждым его дарованию. Мне кажется, что ария князя Галицкого не совсем в плане этого лирического певца. Кстати сказать, молодые исполнители при выборе репертуара мало считаются с характером своего голоса. Например, членов жюри тронул теплый, мягкий звук лирического голоса В. Баевой (Свердловск), и вдруг, на третьем туре, она спела совершенно несвойственный характеру ее дарования драматический отрывок из «Волшебной флейты», а вслед за ним... легкую жанровую песенку. (Во многих случаях нам приходилось снижать оценки из-за неверно подобранного репертуара, малосодержательного, свидетельствующего о невзыскательном вкусе.) Артист вильнюсской оперы Вацлав Даунорас выступил с непосильными для него партиями из «Алеко» и «Лакме». Только этим, на мой взгляд, и объясняется не во всем удачное выступление этого певца, отличающегося тонкой музыкальностью. Студент Института им. Гнесиных стажер Большого театра Евгений Райков обладает сильным красивым голосом. Но, увы, он занят исключительно звуком, и порой создается впечатление, что его совсем не интересует, о чем он поет.
Я сознательно акцентирую внимание не столько на достоинствах, сколько на недостатках, просчетах молодых певцов: ведь на ошибках учатся. И потому особенно правомерен вопрос, в чем же причины наших недостатков.
В несовершенстве педагогических приемов? Бесспорно, нет. Кому не известно, что вокальное искусство — одно из труднейших, что роль педагога-вокалиста особенно сложна: ведь не за 10–15 (как у пианистов, скрипачей), а за каких-нибудь четыре года нужно хорошо поставить голос, взрастить в молодом певце музыканта в самом широком смысле этого слова, воспитать артиста-подвижника, вечного труженика. Сделать это очень трудно, в особенности в тех случаях, когда слишком частые конкурсы выбивают и студента и педагога из обычного учебного ритма. Эти конкурсы, в иных случаях полезные, таят в себе и беды, часто портят молодежь.
Ведь сплошь и рядом студент консерватории, обладающий хорошим голосом, но далеко еще
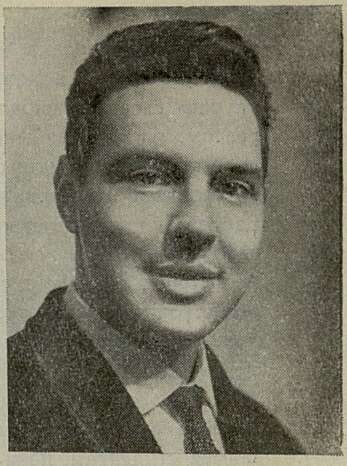
В. Атлантов

М. Решетин
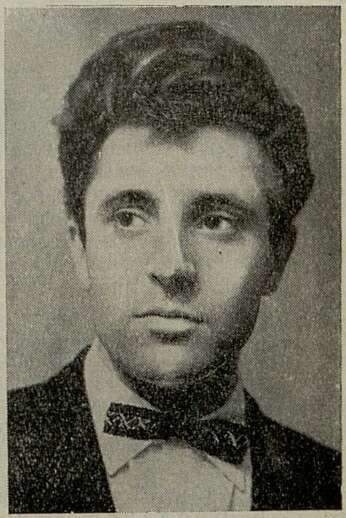
В. Даунорас
не овладевший всеми секретами певческого искусства, выступая на конкурсе, поет по сути дела «с уст» своего преподавателя. Однако, став лауреатом, он уже забывает о занятиях, о советах педагога, считает для себя ненужными и обременительными консерваторские уроки, перестает работать, совершенствовать свое мастерство, но зато начинает во всю «эксплуатировать» свой голос. Конец в таких случаях один: неокрепший голос утрачивает красоту, звучность; отсутствие подлинного мастерства и артистизма сказывается незамедлительно, и блестяще начавшийся путь вокалиста катастрофически обрывается.
Мои слова относятся не только к недоучившимся студентам, но и к молодым артистам. Для меня, например, и после окончания Московской консерватории Большой театр долгие годы оставался главным образом вторым моим университетом. А сейчас, слушая Евгения Райкова, за которого теперь уже больше отвечает театр, нежели институт, я думала: разделяют ли дирижеры и концертмейстеры театра наши заботы и волнения за судьбу молодежи? На конкурсе мы слушали молодых певцов киевского, новосибирского и некоторых других оперных театров. У многих из них уже расшатанные, тремолирующие голоса. Не происходит ли это потому, что дирижеры оперных театров не чувствуют себя ответственными за воспитание молодых артистов?
Большое счастье — найти хороший голос, великая заслуга — помочь сформировать настоящего певца, но необходимо научиться и самим певцам, и тем, в чьих руках находится их судьба, беречь этот редкий и счастливый дар.
В заключение мне хотелось бы выступить с некоторыми предложениями. Первое: думается, что конкурс вокалистов нельзя проводить чаще, чем раз в три года, — пусть молодежь подрастет, окрепнет. В то же время мне представляется целесообразным устроить особый конкурс исполнителей — не студентов, а молодых артистов, лауреатов, завоевавших в течение последних нескольких лет звания и премии. Пусть такая проверка их достижений послужит стимулом к дальнейшей работе.
Добрая слава артиста не реликвия; искусство не терпит почивших на лаврах.
Такой конкурс был бы чудесной школой для слушателей, учащейся молодежи, и стимулом в работе молодых певцов, ибо работа — это животворная сила, без которой невозможна жизнь в искусстве.
Волнующие проблемы
А. НИКОЛАЕВ
В «Заметках» 1 затронуты вопросы, волнующие всех педагогов-исполнителей. И первый из этих вопросов — значение современной музыки в формировании художественно-исполнительского мастерства.
В статье правильно подчеркивается, что произведения выдающихся советских и зарубежных композиторов раскрывают перед исполнителями «новые образные сферы», требуют виртуозного владения новыми приемами и средствами музыкальной выразительности. Творчество крупнейших современных авторов расширяет наши представления о художественных и технических возможностях не только виолончели, но и других инструментов; много нового вносит оно, в частности, и в область фортепианного искусства.
Мы, педагоги, постоянно видим, с каким удовольствием студенты играют произведения Прокофьева, Шостаковича, Кабалевского, Хачатуряна, Бартока, Хиндемита, Бриттена, Барбера — произведения, которые еще недавно считались доступными только немногим виднейшим артистам. Это объясняется в первую очередь тем, что наши замечательные мастера исполнительского искусства в своей концертной деятельности раскрыли перед молодежью подлинное содержание и богатство приемов художественной выразительности, присущих лучшим произведениям современности.
Практическое приобщение молодых исполнителей к новой музыке возможно, однако, за немногим исключением, только на высших этапах обучения, так как в большинстве своем произведения крупных композиторов чрезвычайно трудны не только в музыкальном, но и в техническом отношении. Наши издательства выпускают множество новых произведений для детей и юношества, но как мало среди них высокохудожественных, действительно современных по содержанию и форме сочинений! Для скрипки, виолончели и духовых инструментов они представляют редкое исключение, да и фортепианная литература не особенно богата подобными примерами. Поэтому Б. Бурлаков и М. Ростропович имеют все основания говорить о создании нового репертуара для педагогических целей как об одной из важнейших проблем воспитания юных музыкантов. Играя по-настоящему талантливые,
_________
1 См. «Советскую музыку» № 2 за 1963 г. Б. Бурлаков, М. Ростропович «Заметки о воспитании виолончелистов».
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Наша главная забота 5
- Давайте подумаем 8
- С верой в добро и красоту 10
- Спор продолжается 17
- Кипение молодых сил 24
- Гнев и лирика 25
- С любовью к народу 28
- Творческий подвиг 35
- Наш учитель 36
- Незабываемое время 38
- Не упрощать проблему 39
- Залог научных открытий 42
- Творчески разрабатывать функциональную теорию 44
- 14. Прокофьев С. Консерватория 46
- О пятой симфонии 51
- «Что вы думаете о солнце?» 51
- Из воспоминаний 55
- «Далекие моря» 57
- Новая встреча с Катериной Измайловой 61
- Романтический дар 67
- О нашем певческом будущем 71
- Волнующие проблемы 74
- В концертных залах 79
- На совещании Министерства культуры СССР: Работать по-новому 89
- «Душа поет...» 93
- За «круглым столом» редакции 98
- Трибуна университетов культуры 102
- Заметки без музыки 109
- Из писем Вольфа 116
- Из путевых заметок 129
- Памяти польских друзей 135
- Большой успех советской бетховенианы 136
- «Из архивов русских музыкантов» 140
- Искусство портрета 142
- Вышли из печати 143
- Наши юбиляры: Ю. Г. Крейн 144
- В смешном ладу 147
- Хроника 149



