На втором курсе консерватории показываю Юрию Александровичу первую часть Фортепианного квинтета. В изложении главной партии ритмический рисунок баса мало чем отличается от рисунка верхнего голоса. Конечно, можно было бы посоветовать в двух-трех местах разнообразить длительности, и дело с концом. Но Юрий Александрович разражается блистательнейшей лекцией о банальности размеренного движения баса на сильные доли такта, о самостоятельности ритмического рисунка нижнего голоса у Шумана (помнится, из библиотеки тут же была принесена «Крейслериана»), Чайковского, Брамса, о самостоятельной роли баса в музыкальной ткани и т. д. и т. п. А ведь ни в каких консерваторских программах «проблема баса» специально не фигурирует, никакого особого места в «сетке» расписания ей не отводится. Между тем стоит ли говорить, сколько неповторимого своеобразия дает такая малозначительная на первый взгляд деталь, как его задержание на восьмую или четверть от ожидаемого ухом «раза»? Недаром так часто встречается этот прием в современной музыке...
Как не вспомнить и настоящий фейерверк афоризмов на тему об «экономии тематического материала» (кстати, один из коньков Шапорина-компоэитора) или часто поднимаемый Юрием Александровичем вопрос о важности личных человеческих качеств художника; об опасностях, таящихся в первом успехе молодого музыканта (излюбленная им здесь аналогия — гениальный «Портрет» Гоголя)! Таких примеров можно было бы привести множество.
Общение ученика с Шапориным не просто общение с педагогом. С ним интересно говорить на любую тему, будь то политика или живопись, философия или астронавтика. И ко всему этому композитор относятся со свойственными ему темпераментом и увлеченностью.
В Шапорине студент находит то, что он не прочтет ни в одном учебнике. Я, например, часто ловил себя на мысли, что то или иное замечание моего педагога является для меня преображенным замечанием то ли его учителей — Римского-Корсакова, Лядова, Глазунова, то ли его друзей — Мясковского, Прокофьева, Блока, Горького, А. Толстого и других крупнейших деятелей русского искусства.
Вот почему попасть в класс Ю. Шапорина стремятся молодые композиторы со всего Советского Союза и из-за рубежа. Есть в нем какой-то заветный огонек, к которому всегда необычайно тянет вступающего на трудную дорогу искусства. Это огонек истинно человечного обаяния, доброты, отзывчивости, широкой, подлинно русской гуманности. Не всякий большой художник так способен собирать вокруг себя людей!
В дни шапоринского юбилея мне хочется не только от души поздравить дорогого Юрия Александровича, пожелав ему еще многих лет творческой жизни, но и низко, благодарно ему поклониться от себя и своих товарищей — молодых музыкантов, от всех людей, которым этот замечательный художник, словно горьковский Данко, отдал частицу своего большого и горячего сердца.
Г. ЖУБАНОВА
Рахмет дорогому Аксакалу!
Конец августа 1949 года. Несколько раскрасневшихся от волнения молодых людей прохаживаются по коридору четвертого этажа Московской консерватории. В одном из классов идут приемные экзамены по сочинению. Комиссия весьма солидна. Сейчас уже не помню всех ее членов, но хорошо запомнились Н. Мясковский, Ю. Шапорин, С. Богатырев.
Окончилось прослушивание сочинений, началось обсуждение. Наконец объявлены результаты: принято три человека. Счастливые, что стали студентами самой Московской консерватории, расходимся по домам. Теперь каждого из нас волнует вопрос: в чей класс будем зачислены?
На другой день прихожу к профессору Юрию Александровичу Шапорину, в то время заведующему кафедрой композиции, чтобы выяснить этот вопрос. Представьте же мое удивление и радость, когда узнаю, что буду заниматься в его классе!..
На первом курсе, кроме меня, у Юрия Алек-
сандровича занимался А. Флярковский, остальные были старшекурсники. Среди них: Р. Яхин, А. Кулиев, Д. Благой, Н. Каретников. Годом позже в класс к Шапорину поступили Р. Щедрин и А. Волконский.
В Московскую консерваторию я пришла со «сложнейшей» Скрипичной сонатой. На самом деле ничего сложного в настоящем смысле слова в ней не было, а просто «диссонанс сидел на диссонансе», и это мне казалось последним словом техники. Конечно, дело не в диссонансах, а в том, что они совсем не были продиктованы внутренней необходимостью. Просто приехал молодой музыкант с периферии в столицу и, как заядлая франтиха, кидается на все модное, невзирая на то, к лицу ей это или нет. И вот Юрию Александровичу предстояло внести ясность в эту отуманенную модой голову.
С первого же занятия до поры до времени были отставлены в сторону крупные формы. Я получила скромное задание сделать несколько обработок русских и казахских народных песен. Задание оказалось очень полезным: уже в этих обработках стало намечаться «очищение» стиля. Особенно моему педагогу понравились простые диатонические гармонии, примененные, как он говорил, с большим вкусом. Свежая диатоническая гармония и органичная, красивая мелодия вообще всегда больше импонировали ему, чем внешняя броскость и технические сложности. (Конечно, это не значит, что проблемы композиторской техники мало волновали Шапорина.)
Кропотливая работа над малой формой была продолжена и в цикле прелюдий для фортепиано, где требовалось достичь органичности и естественности всех компонентов: мелодии, гармонии, фактуры. Результаты оправдали себя: прелюдии вошли в репертуар казахских пианистов. Основную задачу в Элегии для скрипки мой педагог определил как умение широко развивать мелодию. Вместе с ним было прослушано немало классических произведений, в первую очередь Чайковского. На экзамене по сочинению за первый курс Элегия получила высокую оценку комиссии.
Я сравнительно подробно рассказываю об этом начальном периоде своих занятий, потому что уже тогда Юрию Александровичу удалось направить меня (как и других учеников) на поиски свежего, индивидуального языка.
Конечно, «перестройка» не проходила так легко, как может показаться при чтении этих строк. Критика учителя иногда носила столь прямой и жесткий характер, без всякой «позолоты» горьких пилюль, что в обиде на него я пропускала два-три занятия, но затем, осознав ее справедливость,
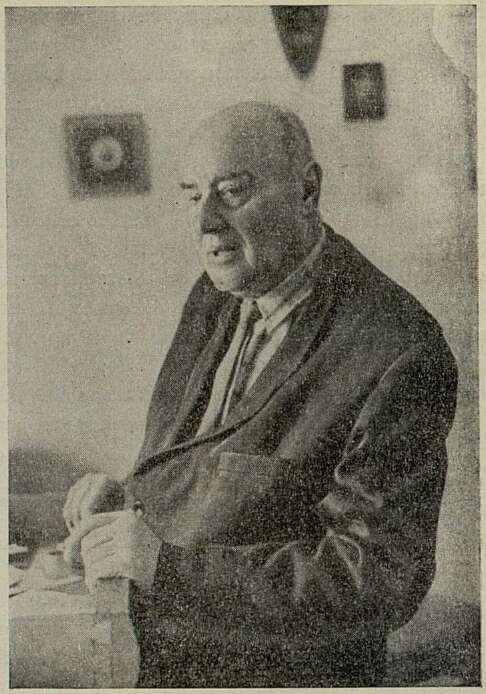
приходила «с повинной». И это возвращение бывало тем более радостным для меня, что в классе Шапорина неизменно царила добрая дружеская атмосфера. Душевный контакт учеников Юрия Александровича возникал быстро и держался долго, ибо он никогда не изображал из себя эдакого маэстро, у которого все разложено по полочкам и в любой момент готов тот или иной рецепт. Обсуждались новые сочинения коллективно. Порой даже стиралась грань между учителем и учениками: нередко случалось, что за роялем сидел Юрий Александрович и играл свою музыку, а мы, ученики, высказывали о ней свое суждение. Так мы прослушали «Декабристов», романсы, виолончельные пьесы и отрывки из начатой в то время кантаты «Доколе коршуну кружить»...
Особой заботой Шапорина было формирование у учеников настоящего, высокого художественноговкуса, непримиримости к внешнему подражательству и вообще ко всякого рода «суррогатам» искусства. Пустое подражательство он всегда высмеивает, отмечая, что оригинал гораздо сильнее. Зато как умеет он поддержать все истинно новое.
Вспоминается, например, такой эпизод. Р. Щедрин впервые принес в класс свой Фортепианный концерт. Юрий Александрович очень развеселился, услышав частушки в таком серьезном
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- «Концертино» 7
- Романтика революции 11
- Труд и дружба 12
- Получится ли опера из «Барабанщицы»? 13
- Во имя света, против тьмы 14
- Лирическая драма 15
- Опера-эпос 17
- Opus первый 22
- Художник русской души 27
- Старейшина советской музыки 29
- Молодые годы 37
- Эпопея революционного героизма 39
- Учитель и друг 43
- Рахмет дорогому аксакалу! 45
- Незабываемое… 47
- Встреча с Щепиным-Ростовским 49
- Поэзия щедрого сердца 50
- Памяти Дмитрия Гачева 52
- Переписка Д. Гачева с Роменом Ролланом 55
- Бессмертный гимн 61
- История, освещенная современностью 74
- Воронежский музыкальный 81
- Молодо, современно, талантливо 86
- Две Наташи 91
- Кира Изотова 94
- Праздник советской музыки в Великобритании 96
- Конкурс в Рио-де-Жанейро 98
- Открытие концертного сезона в Москве 102
- Народность, самобытность, мастерство 103
- Искусство Монголии 106
- Ансамбль «Ладо» 107
- Без комплиментов 108
- Болгарские музыканты 109
- Артисты Греции 109
- «Даг-Дагс» и джаз Ватанабэ 111
- Путешествуя по паркам 113
- От редакции 115
- Новосибирский оркестр в Ленинграде 117
- «Stabat mater» в Харькове 118
- На конкурсах VIII фестиваля 119
- Музыка на острове Свободы 124
- Голос народа 128
- Проблемы западной оперы: Говорит Г. Караян 130
- Любители музыки надеются 131
- Мои впечатления 132
- Юбилейный год Кароля Шимановского 133
- Шимановский в России 134
- «Немецкие народные песни шести веков» 145
- Д. Кабалевский — детям 148
- Пьесы Николая Ракова 149
- Новые книги и ноты за рубежом 150
- На родине космонавта 151
- Звенят песни радости 154
- Имени Ленина 154
- Самые яркие минуты 155
- 60 городов 156
- Первый балет 157
- В расцвете творческих сил 158
- Здесь выступают лучшие 159
- Ваш советский репертуар? 160
- На пути к современности 162
- [Фоторепортаж о И. Ф. Стравинском] 164
- Артистические удачи 165
- С экрана телевизора 165
- Памяти ушедших. А. А. Борисяк 166



