Л. МАСЛЕННИКОВ
Встреча с Щепиным-Роствоским
Начало моей работы в опере Ю. Шапорина «Декабристы» напоминало эпизод из головокружительного кинофильма, где за два дня до спектакля вдруг заболевает артист, а молодой исполнитель, срочно заменяющий его, именно в этой роли находит что-то очень важное и близкое для себя. Бывают же такие совпадения! — за два дня до оркестровой репетиции мне говорят, что я должен петь Щепина-Ростовского вместо заболевшего актера. Не успев даже побеседовать с режиссером-постановщиком Н. Охлопковым, бегу домой учить партию: ведь впереди только 48 часов. И, разумеется, стараюсь припомнить все, что связано в моей небольшой еще артистической жизни с Шапориным, с его музыкой.
Видится мне 1953 год, и один из первых спектаклей «Декабристов», и я сам — тогда еще студент второго курса консерватории, сидящий на галерке Большого театра и, конечно, даже не смеющий мечтать о том, чтобы петь на его сцене. Вспоминаю работу над романсами из чудесного цикла «Далекая юность», которые доводилось мне исполнять и в рабочих аудиториях на шефских концертах, и в Варшаве на Международном конкурсе вокалистов в 1955 году. И вот теперь Щепин-Ростовский...
Мне повезло: не нужно было заново учиться носить военный мундир, так как предыдущей работой был Анатоль Курагин в «Войне и мире» Прокофьева — офицер примерно той же эпохи, что и мой новый герой. Поэтому на первой же репетиции я почувствовал себя в дворянской гостиной Российской империи первой трети прошлото века словно бы «дома». Собственно, на этом сходство и кончалось: вместо непривлекательного персонажа «Войны и мира» мне предстояло воплотить один из благороднейших характеров русской истории и русского искусства.
Декабристы... Первые наши революционеры, люди огромной мысли и светлой мечты, дерзновенно заглянувшие в завтрашний день родины. Не передать словами волнения, охватившего меня, одного из тех, кому посчастливилось воссоздать художественный облик этих людей, о которых Герцен сказал, что, когда изъяли декабристов, общий уровень цивилизации в России понизился. Есть вообще роли и характеры, которые облагораживают артиста, помогая ему воплотить лучшее, что дано человеку, — гражданственность, патриотизм, желание сделать мир прекрасней. Когда мы, несколько певцов, став тесным полукругом, негромкими голосами провозглашали:
Товарищ, верь, взойдет она,
Звезда пленительного счастья, —
словно «раздвигалось» время и раздвигались стены Большого театра. За окном комнаты Рылеева темнел Петербург. Где-то там Сенатская площадь. Близок рассвет, а с ним и одна из самых ослепительных и трагических вспышек революционного бунтарского духа на земле. Вставала перед нами вся «нищая, великая, копеечная, звериная» Россия Николая I. И постигали мы трепетное счастье беззаветного служения народу тех, чьи имена написаны «на обломках самовластья»...
Но не только своей вдохновенной героикой «заразил» меня Щепин-Ростовский. С первой же встречи (еще в качестве слушателя) я ощутил в нем притягательный «лирический свет». В чем-то он сродни моему любимому юперному герою — восторженному поэту Владимиру Ленскому: та же упоенность чувством, то же «возвышенное» ощущение жизни. И это сочетание внутреннего лиризма с мужественной верностью благородной жизненной цели, ради которой идет в сибирскую каторгу русский офицер, — это сочетание особенно привлекло меня в образе Щепина-Ростовского.
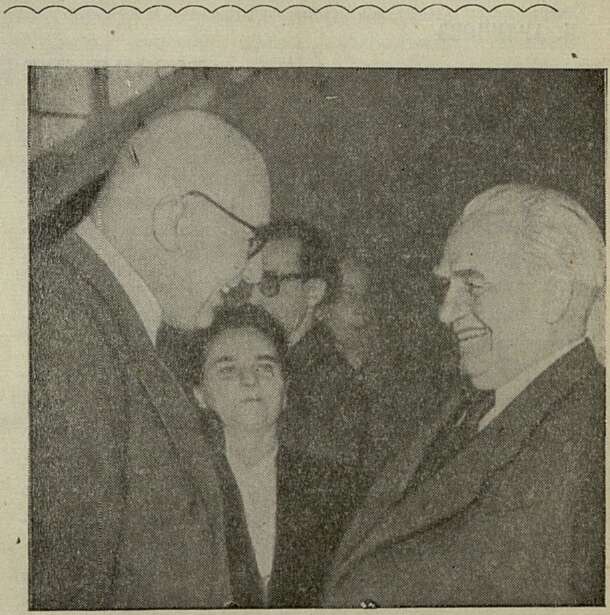
Ю. Шапорин и Н. Тихонов
Вот его беседа с матерью в первой картине. Юноша размышляет о страдающем народе. Он говорит о необходимости и горячем желании преобразить его судьбу. Вдруг возникает лирическое ариозо — он рассказывает о Елене, и этот рассказ воспринимается как «заочное» объяснение в любви. Затем приходит Пестель, и разговор вновь органично переходит в иной, гражданственный план.
Или дуэт Щепина-Ростовского с Еленой — одна из лучших страниц оперы. Помните, как он звучит не в сцене лирического объяснения героев, а в финале, рисующем участников Декабрьского восстания на этапе по дороге в Сибирь? Казалось бы, отчаяние должно властвовать «в их сердцах: восстание подавлено, его вожди осуждены на смерть, и чудится, будто вся страшная «Владимирка» гремит кандалами. И вот в эту-то минуту как голос вечно живой и прекрасной жизни возникает светлая мелодия дуэта — светлей, чем прежде (более высокая тональность, несколько измененная оркестровка)...
Существует мнение, что вокальную музыку Ю. Шапорина исполнять легче, чем, скажем, С. Прокофьева. Мнение это справедливо в том отношении, что у Шапорина почти не найти резких интонационных сдвигов, нарочитых несовпадений мелодии с аккомпанементом, сложных политональных ансамблей. Но здесь есть и свои трудности. Одна из них — обилие гибких модуляций, заставляющее певца быть очень «бдительным» в смысле чистоты интонирования. Другая — частые параллельные движения темы у солиста и оркестра или в ансамбле, требующие умения выделить индивидуальный тембр. Главное же, конечно, в верной передаче содержания. Ведь есть музыка, интонационно совсем несложная, напротив, подчеркнуто диатоничная, по-народному распевная (например, иные романсы Г. Свиридова). Но в этой-то простоте, «обнажающей» выразительность содержания, как раз и заключается ее трудность. Здесь исполнитель как бы наедине с образом: добиться эффекта ему не помогают ни особо изобретательная мелодия, ни тщательно «декорированная» фактура. Дана «только» песенная тема — спой, если ты артист...
Пройдут годы. Композиторы создадут много ярких новаторских произведений. Но как неостынет сердце пассажира реактивного вертолета к красоте раздольных русских полей, так не остынет наш слух, жадно впитывающий все новое, смелое, современное, к неувядаемой красоте народной песенности. И среди имен ее пламенных и ревностных «жрецов» любители музыки будут с признательностью называть имя Юрия Александровича Шапорина.
И. АРХИПОВА
Поэзия щедрого сердца
Я уверена в том, что музыка, какая бы она ни была — старая или современная, «традиционная», как сейчас говорят, или новаторская, обязательно должна быть богатой живыми чувствами художника. Мне кажется, что от масштаба его душевной жизни, щедрости и красоты эмоций зависит и красота музыки, ее экспрессия, содержательность, ее воздействие на людей.
Эту истину подтверждает, на мой взгляд, вюкальное творчество Ю. А. Шапорина. Художественная индивидуальность композитора ярко раскрылась во всех жанрах, в которых он творит. Но, думается, что нигде так многогранно, полно и поэтично не отразились его личность, его душевный склад, как в вокальной музыке.
В статьях о Шапорине часто подчеркивается стремление композитора продолжить классические традиции русской вокальной музыки, ее связи с поэзией Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета... Но гораздо реже говорится о том, что Шапорин в своих романсах открыл и новую страницу — Блока. В лирике великого русского поэта композитор чутко уловил не только ее психологическую сложность и тонкость, но и звонкий голос жарких, открытых страстей, раздольную песню щедрого сердца. Нас очаровывает в блоковских тетрадях Шапорина и юношески восторженные, ликующие дифирамбы красоте, и светлые картины счастливой любви, и страницы, проникнутые бурным, вырастающим до большой патетики чувством отчаяния, протеста, призыва... И отсюда широкий разлив мелодии, пластично передающей «музыку» поэтического слова, его эмоциональный подтекст.
Мне кажется, именно в этом секрет того, чтоисполнитель всегда может найти в романсах Шапорина близкие себе чувства, большое их разнообразие. Поэтому музыка Шапорина так вол-
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- «Концертино» 7
- Романтика революции 11
- Труд и дружба 12
- Получится ли опера из «Барабанщицы»? 13
- Во имя света, против тьмы 14
- Лирическая драма 15
- Опера-эпос 17
- Opus первый 22
- Художник русской души 27
- Старейшина советской музыки 29
- Молодые годы 37
- Эпопея революционного героизма 39
- Учитель и друг 43
- Рахмет дорогому аксакалу! 45
- Незабываемое… 47
- Встреча с Щепиным-Ростовским 49
- Поэзия щедрого сердца 50
- Памяти Дмитрия Гачева 52
- Переписка Д. Гачева с Роменом Ролланом 55
- Бессмертный гимн 61
- История, освещенная современностью 74
- Воронежский музыкальный 81
- Молодо, современно, талантливо 86
- Две Наташи 91
- Кира Изотова 94
- Праздник советской музыки в Великобритании 96
- Конкурс в Рио-де-Жанейро 98
- Открытие концертного сезона в Москве 102
- Народность, самобытность, мастерство 103
- Искусство Монголии 106
- Ансамбль «Ладо» 107
- Без комплиментов 108
- Болгарские музыканты 109
- Артисты Греции 109
- «Даг-Дагс» и джаз Ватанабэ 111
- Путешествуя по паркам 113
- От редакции 115
- Новосибирский оркестр в Ленинграде 117
- «Stabat mater» в Харькове 118
- На конкурсах VIII фестиваля 119
- Музыка на острове Свободы 124
- Голос народа 128
- Проблемы западной оперы: Говорит Г. Караян 130
- Любители музыки надеются 131
- Мои впечатления 132
- Юбилейный год Кароля Шимановского 133
- Шимановский в России 134
- «Немецкие народные песни шести веков» 145
- Д. Кабалевский — детям 148
- Пьесы Николая Ракова 149
- Новые книги и ноты за рубежом 150
- На родине космонавта 151
- Звенят песни радости 154
- Имени Ленина 154
- Самые яркие минуты 155
- 60 городов 156
- Первый балет 157
- В расцвете творческих сил 158
- Здесь выступают лучшие 159
- Ваш советский репертуар? 160
- На пути к современности 162
- [Фоторепортаж о И. Ф. Стравинском] 164
- Артистические удачи 165
- С экрана телевизора 165
- Памяти ушедших. А. А. Борисяк 166



