о невидимом граде Китеже» (в те годы Шапорин близко общался с семьей Андрея Николаевича Римского-Корсакова); и интересные рассказы о «вторых звездах музыкальной галактики» недавней апохи — Аренском, Гречанинове, Кюи, Рубинштейне, Направнике, Калинникове, Ребикове и других. Все это было богатым дополнением и вместе с тем объективным «историческим коррективом» к разнообразным образцам западной музыки, которую мы в изобилии изучали у Щербачева и в кругу его учеников — Г. Попова, Б. Арапова, В. Волошянова и других.
*
Необычной была квартира на Канонерской. Состояла она из четырех комнат. Но «жилой» была только одна — кабинет, в котором обитал и работал хозяин; и иногда (раз в неделю, по пятницам) «оживала» другая, столовая, когда на традиционные обеды собирались друзья — композиторы X. С. Кушнарев, М. В. Дешевов, Н. М. Стрельников, пианистка М. В. Юдина, иногда режиссеры и актеры драматических театров. Шапорин сам готовил салаты и гостеприимно хлопотал за столом. Прислуживала же неизменная Аннушка, спускавшаяся по таинственной винтовой лестнице из мансарды, где находилась кухня. Остальные комнаты были почти пустые. И только однажды самая большая из них внезапно, словно по мановению волшебного жезла, наполнилась невесть откуда появившейся старинной мебелью. Это было в вечер, когда Шапорин в качестве председателя Ленинградского отделения Ассоциации современной музыки принимал у себя известного французского композитора Артура Онеггера и его жену, пианистку Андрэ Ворабур.
Жил тогда Шапорин «холостяком»: его семья из-за болезни дочери Аленушки в течение ряда лет находилась в Париже. Шапорин вечно был в хлопотах. Его захлестывал общественный темперамент. Весь насыщенный музыкой, творческими замыслами, на улице, в трамвае, на заседаниях обдумывающий какие-нибудь подробности фигурации или инструментовки, он в то же время успевал руководить отделением Ассоциации современной музыки, дебатировать на собраниях правления авторского общества Драмсоюз, возглавляемого Глазуновым, проводить просмотры редсовета кооперативного издательства «Тритон».
Издательство было маленьким, но боевым. Оно выпускало в свет произведения молодых ленинградцев — фортепианные «Афоризмы» Шостаковича, «Рельсы» Дешевова, обработки пианиста А. Каменского, неутомимого пропагандиста новой музыки, сочинения Щербачева, Попова, Рязанова. Чуть не «надорвавшись» от напряжения всех экономических и производственных ресурсов, оно выпустило объемную «Книгу о Стравинском» Игоря Глебова. И ленинградское отделение Музгиза ревниво и недоброжелательно следило за успехами своих «конкурентов» — музыкальных кооператоров. Вспоминаю комичную мизансцену на углу Невского проспекта и Садовой улицы, где произошла встреча Шапорина (в то время председателя правления «Тритона») с В. Петито — директором ленинградского отделения Музгиза. Петито был малюсенького роста. Стоя рядом с Шапориным, он еле дотягивался ему до пояса. Но воинственно «хоро-
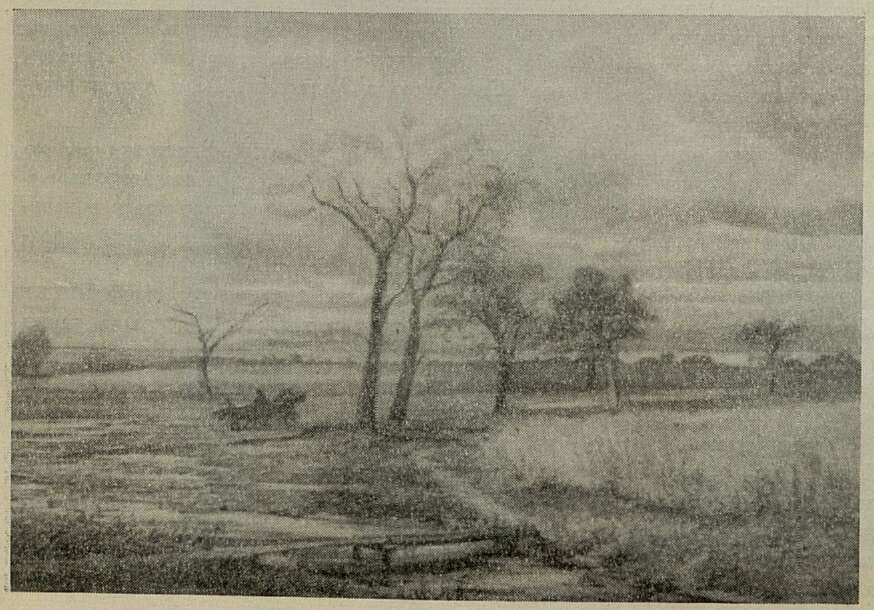
По дороге в Глухово
Рисунок отца композитора
хорился» и, глядя исподлобья снизу вверх, раздраженно восклицал: «Вас надо закрыть! Я вообще против карликовых издательств!» Шапорин же молчал и, глядя из-под очков на собеседника с высоты своего великанного роста, добродушно улыбался.
Редко вижу я его в гневе. Это случается тогда, когда он сталкивается с какой-нибудь явной несправедливостью в оценке художественного явления. Так, однажды в артистической Большого зала Ленинградской филармонии грозно, на «самых высоких нотах» распекал он всесильного тогда В. Е. Иохельсона, ответственного секретаря Ленинградского союза советских композиторов, не раз допускавшего самовластие и администрирование, за что и был впоследствии забаллотирован на выборах. Беря под защиту какое-то сочинение талантливого молодого автора, отвергнутое Иохельсоном, Шапорин наступал на последнего, теснил его к стене и громоподобным голосом выкрикивал: «Я и не на таких находил управу!» Соллертинский и Ашкенази испуганно пытались примирить «противников».
В момент, когда Шостакович подвергся резкой и далеко не во всем справедливой критике по поводу оперы «Леди Макбет Мценекого уезда», Шапорин стремился смягчить его травму и посвятил ему один из романсов своего пушкинского цикла, не без умысла аллегорически избрав для этого стихотворение «Эхо», завершающееся строками:
Тебе ж нет отзыва...Таков
И ты, поэт!
При всем уже отмеченном мною изобилии замыслов и параллельной работе Шапорина над несколькими сочинениями для меня несомненно, что Симфония с хором была основополагающим, центральным произведением его «домосковского» периода. В ней не только четко наметились и наглядно обозначились черты монументального вокально-оркестрового стиля и ораториально-симфонического жанра, положенные в основу его более поздних и более зрелых сочинений. В ней были постулированы творческие принципы, в дальнейшем с огромной силой развитые в Одиннадцатой и Двенадцатой симфониях Шостаковича, — приемы симфонического обобщения бытового революционного фольклора эпохи. Речь идет не о лозунговом использовании цитат революционного фольклора, что встречалось и в «Симфоническом монументе» М. Гнесина, и в «Траурной оде» А. Крейна, а об органическом сплаве оригинального тематического и образного материала с народным звуковоплощением действительности, в результате которого отдельные мелодии приобретают своего рода эмблематическое значение. Именно так трактовал Шапорин мелодию и ритмы песни «Яблочко» для раскрытия во второй части Симфонии стихии вырвавшихся из-под векового гнета народных масс, а тему марша Буденного в финале — для передачи целеустремленности организованно направленной народной энергии.
Симфония Шапорина, безусловно, автобиографична. Она писалась по живым следам событий революционной действительности, по личным впечатлениям и переживаниям эпохи первых лет советской власти. И документальная значимость ее в том, что она представляет собою горячую исповедь, рассказ о личной судьбе, в которой, как в капле воды, запечатлелись судьбы целого поколения людей Великого Октября. Подтверждается это тем, что сказано героем романа К. Федина «Братья» композитором Никитой Каревым в главе, вписанной Шапориным в этот роман по просьбе самого автора. Создавалась эта глава в моем присутствии в течение нескольких ночей все там же, на Канонерской улице, и писал ее Шапорин, конечно, о себе.
При своем появлении Симфония Шапорина вызвала живой интерес музыкальной общественности и широкого круга любителей музыки. Она была премирована на конкурсе, проведенном Большим театром Союза ССР в Москве. Ее первые исполнения в Большом зале филармонии и на Металлическом заводе в Ленинграде под управлением Альберта Коутса прошли с громадным успехом. Темпераментно, звонко, с энтузиазмом пел самодеятельный хор. Коутс, высокий, большой, возвышался скульптурным монументом над огромной массой исполнителей и широкими, властными жестами направлял течение музыки. Вскоре же после ленинградской «премьеры» он с успехом играл Симфонию в Лондоне, Вене и других городах Европы.
Конечно, в Симфонии есть недостатки. И относительные (они присутствуют в каждом художественном произведении и обнаруживаются в зависимости от того или иного «эстетического аспекта» восприятия), и безотносительные. Имею в виду перегруженность фактурными деталями и tutti'ной звучностью в крайних частях, а также некоторые длинноты в скерцо и в финале. Но неоспоримо, что она заслуживает устойчивой репертуарной жизни, которая могла бы быть очень эффективной при условии незначительной доработки партитуры. Но ее не играют. У нас короткая память к нашему прошлому, даже значительному, даже недавнему. Мы неустанно требуем «сегодняшнего», забывая о том, что оно не выдумывается произвольно, а вытекает из «вчерашне-
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- «Концертино» 7
- Романтика революции 11
- Труд и дружба 12
- Получится ли опера из «Барабанщицы»? 13
- Во имя света, против тьмы 14
- Лирическая драма 15
- Опера-эпос 17
- Opus первый 22
- Художник русской души 27
- Старейшина советской музыки 29
- Молодые годы 37
- Эпопея революционного героизма 39
- Учитель и друг 43
- Рахмет дорогому аксакалу! 45
- Незабываемое… 47
- Встреча с Щепиным-Ростовским 49
- Поэзия щедрого сердца 50
- Памяти Дмитрия Гачева 52
- Переписка Д. Гачева с Роменом Ролланом 55
- Бессмертный гимн 61
- История, освещенная современностью 74
- Воронежский музыкальный 81
- Молодо, современно, талантливо 86
- Две Наташи 91
- Кира Изотова 94
- Праздник советской музыки в Великобритании 96
- Конкурс в Рио-де-Жанейро 98
- Открытие концертного сезона в Москве 102
- Народность, самобытность, мастерство 103
- Искусство Монголии 106
- Ансамбль «Ладо» 107
- Без комплиментов 108
- Болгарские музыканты 109
- Артисты Греции 109
- «Даг-Дагс» и джаз Ватанабэ 111
- Путешествуя по паркам 113
- От редакции 115
- Новосибирский оркестр в Ленинграде 117
- «Stabat mater» в Харькове 118
- На конкурсах VIII фестиваля 119
- Музыка на острове Свободы 124
- Голос народа 128
- Проблемы западной оперы: Говорит Г. Караян 130
- Любители музыки надеются 131
- Мои впечатления 132
- Юбилейный год Кароля Шимановского 133
- Шимановский в России 134
- «Немецкие народные песни шести веков» 145
- Д. Кабалевский — детям 148
- Пьесы Николая Ракова 149
- Новые книги и ноты за рубежом 150
- На родине космонавта 151
- Звенят песни радости 154
- Имени Ленина 154
- Самые яркие минуты 155
- 60 городов 156
- Первый балет 157
- В расцвете творческих сил 158
- Здесь выступают лучшие 159
- Ваш советский репертуар? 160
- На пути к современности 162
- [Фоторепортаж о И. Ф. Стравинском] 164
- Артистические удачи 165
- С экрана телевизора 165
- Памяти ушедших. А. А. Борисяк 166



