Три года — срок сравнительно небольшой, и то, что Г. Савельев успел за это время создать несколько крупных по масштабу, сложных по содержанию произведений, говорит об активной работе, о быстром росте и возмужании его таланта. Все это позволяет ждать от него еще более интересного, смелого, совершенного.
Музыка Савельева в основе своей оптимистична и жизнерадостна. Он хорошо чувствует комическое, и эта черта наиболее полно раскрылась в опере и оперетте.
Тяготение к театру вполне закономерно: молодой композитор наделен большой наблюдательностью; лучшие темы его сочинений, как принято говорить, «почти зримы». Слушая их, кажется, будто видишь детали костюма, жесты, мимику, очертания лиц. Этих лиц много. Одни из них беспечно веселы, заразительно смеются (оперетта «Сестренка»), другие намеренно искажены и окарикатурены (опера «Фантазия»), но есть и такие, которым присуще лирически задушевное, а порой и драматически напряженное выражение. Но как ни разнохарактерны герои Савельева, сразу заметно, что в большинстве своем они молоды. И это не случайно. Композитор хорошо знает своих сверстников и, естественно, предпочитает говорить в музыке именно о них.
Савельеву чужда философическая отвлеченность в оценке жизненных явлений. Напротив — он тяготеет к жанровым зарисовкам, к изображению героя в его бытовом окружении. Художник избегает говорить от себя лично, высказывания «от автора», как правило, окрашены в объективные тона. Словно оставаясь в стороне, в роли наблюдателя, он предоставляет своим персонажам полную свободу действий: они «сами» излагают и отстаивают свои взгляды. Тем самым эмоциональное содержание музыки Савельева в каждом отдельном случае как бы «персонифицируется». Умение выбрать оригинальную тему — вот еще одна немаловажная черта, о которой хочется поговорить особо. На первый взгляд кажется, что великие события и острые проблемы современности, высокие страсти не привлекают композитора, что он обращается к сюжетам прозаическим, случайным. Но ведь связь сюжета с темой не столь прямолинейна, как может показаться на первый взгляд. Можно повествовать о великих людях, об исторических переворотах и все же ничего значительного не сказать. И, наоборот, даже самое маленькое, привычное явление обретает новый смысл, наполняется глубоким содержанием, если автор сумел раскрыть его внутреннюю сущность, показать реальную жизнь человека.
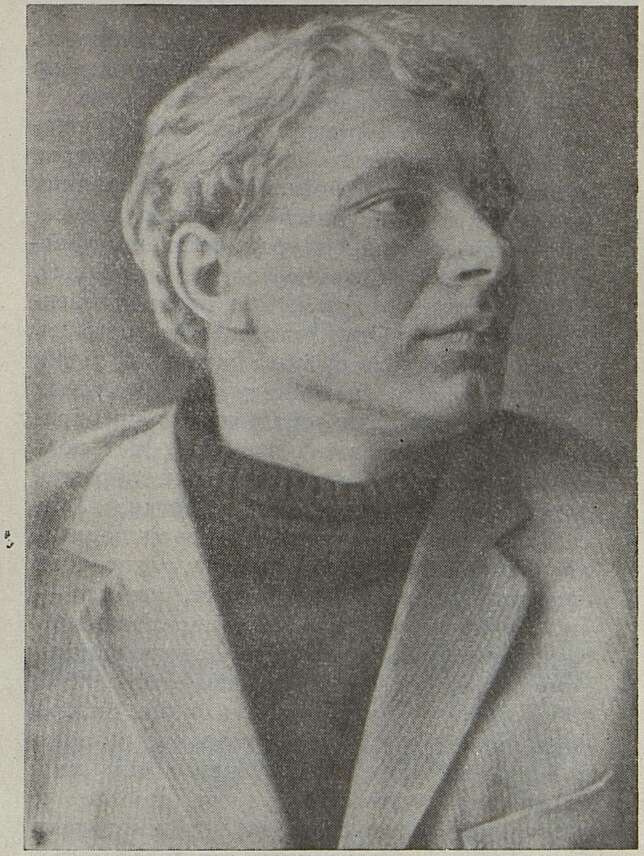
Савельев обладает способностью видеть в обыденном большое. Именно она, эта способность, и придает, казалось бы, прозаичным темам его сочинений оригинальный и смелый поворот, поэтический характер. И все же создается впечатление, что композитор подчас, словно щеголяя этой особенностью своего дарования, слишком поспешен и небрежен в выборе сюжета, не продумывает до конца свой замысел. В таких случаях главное — художественное раскрытие четко определенной идеи — отодвигается на второй план, а все силы направляются на то, чтобы преодолеть «со-
противление материала» и кое-как замазать «белые пятна» неудачного либретто.
В этом мы убедимся, остановившись на двух первых произведениях Савельева.
В водевиле Козьмы Пруткова «Фантазия», послужившем канвой для оперы, много блестящего комизма: он и в едких репликах, и в забавных ситуациях, и в самих причудливых фигурах, вызванных авторами. Но содержание водевиля не более, как остроумная шутка, как озорной анекдот, пародирующий театральные штампы. Здесь нет глубокой положительной идеи, которая давала бы основу для развитых характеристик, для тематических преобразований, музыкальных выводов. Нет полнокровных психологизированных образов, вместо них — беглые, хотя и меткие зарисовки. Смешны и уродливы герои водевиля: богатая старуха Чупурлина, глуповатая невеста Лизавета Платоновна, женихи — «приличный человек» Кутило-Завалдайский, «молодой немец, не без резвости» Либенталь, «человек отчасти лукавый и вероломный» Разорваки. Очевидно, автора привлекла возможность создать галерею гротесковых портретов. Многое ему действительно удалось. Хорош пролог к опере, где Кутило-Завалдайский выступает с комическим «заявлением» от автора; свежей струей затем врывается увертюра. Остра и зла характеристика подхалима Либенталя, который легко завоевывает расположение Чупурлиной, ухаживая за ее моськой, в то время как другие женихи «честно» расписывают свои достоинства. Далее Савельев меткими штрихами углубляет эту характеристику, заставляя Либенталя репетировать объяснение в любви. С едким сарказмом описывает он и выставку собак разных калибров и мастей, найденных ретивыми женихами вместо пропавшей моськи.
Музыка этих сцен способствует созданию атмосферы радостного комедийного действия. Но композитор непоследователен в развитии сатирической линии. Больше того, он часто забывает о ней и в ряде сцен стремится переосмыслить пьесу, изыскивает «серьезные» моменты, повод для лирических сцен, арий, дуэтов, ансамблей. Но поиски положительного начала в сатирическом сюжете оказались крайне трудной и неблагодарной задачей. Темп оперы замедляется, ее ритм становится тяжеловесным и размеренным, тускнеют многие остро сатирические моменты. Так, стремительный бег увертюры сразу натыкается на рыхлую, статичную сцену женихов, готовящихся к выходу Чупурлиной: вместо ожидаемых контрастирующих характерных зарисовок — медлительный квартет, где одна и та же тема имитационно проходит в разных голосах. Скажем прямо, начало для комической оперы скучноватое.
Драматургически вялым получился и эпизод, в котором женихи поочередно рассказывают о себе. Музыка хороша, ярка (исключая псевдовосточную, несколько надуманную мелодию Разорваки), но, слушая ее, не представляешь себе сценического поведения актеров. Пока один из них поет, остальным не остается ничего другого, как только пассивно наблюдать.
Недостаточная продуманность замысла больше всего отразилась в характеристике Либенталя, который должен был стать центральной отрицательной фигурой оперы. Здесь особенно ощущается неуместность стремления автора ввести лирические «серьезные» номера там, где по существу для них нет подходящей эмоциональной основы. Только что Либенталь закончил комическую репетицию объяснения в любви. Появляется его невеста Лизавета Платоновна. И вдруг этот подхалим и пройдоха, неожиданно преобразившись, запевает чудесную искреннюю тему любовного дуэта. Но как ни хороша музыка, она явно не к месту и даже более того — разрушает образ Либенталя, превращает персонаж комедии в мелодраматического героя.
Эти грубые противоречия значительно снижают впечатление от оперы в целом.
Драматургические просчеты есть и в оперетте «Сестренка» (авторы либретто — А. Левинский, Г. Грановская, В. Эйранов). Действие ее происходит в поселке строителей, воздвигающих в степи новый город. Главные герои, Анка и Степан, с самого начала любят друг друга и единственное препятствие на пути к их счастью — своеобразная раздвоенность натуры самой героини. Ей кажется, будто в наши дни больших трудовых свершений не до любви, не до лирики, и поэтому она стремится подавить в себе стремление к личному счастью. Что ж, может быть, эта черточка характера и подсмотрена в жизни. Но беда вся в том, что в дальнейшем этот конф-
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Стоять на почве жизни 5
- Мир — труд — искусство 8
- Слово и музыка 13
- Любовь к искусству — любовь к людям 16
- Теснее творческие связи! 20
- Будущее за такой музыкой! 22
- Откройте все окна! 25
- Время счастливое и тревожное 30
- Весна творчества 34
- «Мы не забудем! Мы не простим!» 41
- О музыке Н. Пейко 47
- «Баллада о солдате» 52
- Новинки духовой музыки 54
- Удачи киргизского театра 57
- Ближе к Прокофьеву 61
- Балет и симфония 64
- В молодые годы 69
- Второй международный... 79
- Искать и творить 81
- Американские впечатления 84
- Говорят преподаватели вокальных кафедр 88
- Говорят преподаватели вокальных кафедр 89
- Говорят преподаватели вокальных кафедр 89
- Говорят преподаватели вокальных кафедр 91
- Говорят преподаватели вокальных кафедр 91
- Говорят преподаватели вокальных кафедр 92
- Слово музыкальному училищу 94
- Тяжелые утраты 95
- Концерт Козловского 102
- Смелее обновлять симфонические программы 103
- Заметки на полях концертных программ 103
- Посланцы «Страны утренней свежести» 106
- Произведения Веселина Стоянова 107
- Артисты Кубы 108
- Моурин Форрестер 109
- Концерты скрипачей. М. Яшвили 109
- Концерты скрипачей. Ванда Вилкомирская 110
- Концерты скрипачей. Генрик Шеринг 110
- Концерты скрипачей. Рикардо Однопозов 111
- Ленинград: Бородинцы 112
- Надежда Юренева 113
- Ингрид Хеблер 113
- Джузеппе Постильоне 114
- Разговор с молодежью 115
- Слово за Госпланом и ВСНХ 123
- Пятая «Осень» 124
- Кризис творческой фантазии? 128
- Композитор и общество 130
- Письма из-за рубежа 132
- Письма из-за рубежа 132
- Письма из-за рубежа 132
- Письма из-за рубежа 132
- Танго и его история 133
- Пестрые страницы 138
- Из иностранного юмора 143
- В помощь историкам 144
- О популярной музыковедческой литературе 145
- Поступили в продажу пластинки 147
- «Дождливая песня» 148
- Хроника 149
- Советская музыка — в рабочих клубах 150
- Пленум в Абхазии 150
- У молодежи Казахстана 151
- Новые работы москвичей 151
- Молодые мастера музыкального театра 151
- Творческий отчет уральцев 152
- По следам одной заявки 152
- Из фотоальбома композитора 153
- Плавучий университет 156
- Памяти ушедших. А. Г. Тер-Гевондян 164
- Памяти ушедших. Б. С. Шехтер 164



