рисова. Сколько теперь потребуется усилий и времени, чтобы исчезли из сознания людей ложные представления о замечательном деятеле русской культуры» (стр. 140).
Казалось бы, мнение упомянутых специалистов должно было помочь ленинградскому отделению издательства «Детская литература» понять допущенную им ошибку и предотвратить возможность дальнейшей популяризации литературы, развращающей вкусы юных читателей. Но, как видно, по этому вопросу здесь имеется свое «особое мнение». Игнорируя критику, не вступая в спор с оппонентами, издательство — своя рука владыка! — выпустило огромным тиражом обе повести Л. Борисова, объединенные в одну книгу...
Достаточно посмотреть на обложку этого издания, чтобы оценить, насколько издательство хорошо почувствовало «стиль» этого труда, решив преподнести его читателю в «обертке» светло-лилового цвета с рыночной корзиной чахлой сирени.
Сличив тексты нового и прежнего издания повестей, можно сделать вывод, что они «переработаны». Но как? Опущено несколько абзацев, заменены отдельные слова. А борисовская «концепция» Рахманинова-человека и Рахманинова-художника, искажающая облик великого музыканта, осталась в неприкосновенности, как и литературный «стиль» автора. Мало того. В книге появилось «послесловие», подписанное все тем же единственным адвокатом Л. Борисова — Е. Брандисом.
На семи страницах убористого петита сообщаются «примечательные» факты из биографии Борисова с явным намерением поднять его акции. Попутно даются наставления, как надо читать книги Борисова, с каким уважением надо относиться к его «вдохновенному» труду. Попутно расточаются хвалы его слогу («ощущение красоты слова, щедрая образность и выразительность речи»). Правда, из предосторожности в конце статьи сказано, что Борисовым «не вполне убедительно» решена поставленная им тема, но эти три слова тонут в общем панегирике автору и его произведениям.
В итоге прибавилось еще пятьдесят тысяч юных читателей, которые получили низкопробную и по содержанию и по оформлению книжку.
Неужели же позиция, занятая ленинградским отделением издательства «Детская литература» в отношении повестей Леонида Борисова, не беспокоит Министерство просвещения РСФСР и Комитет по делам печати при Совете министров РСФСР, и неужели подобный случай по существу пренебрежительного отношения к общественному мнению будет сегодня оставлен без последствий?
М. Сергеев
С. Грица
ОСНОВОПОЛОЖНИК МУЗЫКАЛЬНОЙ СЛАВИСТИКИ
Среди работ чешских музыковедов, вышедших за последние годы, особого внимания заслуживает монография Йозефа Станислава о Людвике Кубе. Это первое исследование о выдающемся чешском ученом-фольклористе, основоположнике музыкальной славистики, известном живописце, передовом общественном деятеле. Книга необычайно интересна не только для познания многогранной творческой личности Кубы. Она содержит богатый материал для сравнительного изучения славянских песенных культур.
Станиславу, крупному чешскому теоретику и композитору, очень близка и дорога личность Кубы. Он рассматривает деятельность ученого в тесной связи с общественно-историческими условиями и культурным окружением, акцентируя особое внимание читателя на проблематике его работ, на значении его научных традиций в развитии современной славянской музыкальной фольклористики. Отсюда несколько необычный план монографии, Носящий характер проблемных очерков. В главе о формировании идейно-эстетических взглядов Кубы автор довольно подробно освещает исторические предпосылки развития славистики («Славянство в главных чертах своего развития в Европе»). В основном разделе книги, озаглавленном «Л. Куба и песни славянских народов», анализируя фольклорный метод ученого, Станислав впервые раскрывает его большие заслуги в изучении истоков фольклора, показывает его как активного пропагандиста народного творчества и борца за демократические основы профессионального искусства.
Теоретические положения автора подкреплены множеством фактов, большим историческим материалом. Ценным приложением к работе являются «Путевые записки Л. Кубы», письма ученого, а также аннотированный список всех славянских песен, помещенных в капитальном труде Кубы, «Славянство в своих песнях».
Идеей создания антологии музыкального славянского фольклора Куба увлекся еще в юности. И, читая книгу, кажется, будто Станислав сопровождает Кубу в его почти сорокалетием путешествии по славянским странам, вместе с ним восхищается богатствами народной песни, оценивает достижения фольклористики. Он показывает одновременно, сколько трудностей и лишений пришлось познать ученому на пути к созданию своего труда «Славянство». А как остро переживал Куба охлаждение к его работе многих соотечественников, подпавших, по выражению автора, под влияние «эгоистического автославизма» Гавличека и Палацкого! И только огромная воля, глубокое сознание общественной важности работы, которую ученый рассматривал как форму борьбы за всемирное признание культуры славянских народов, помогли ему достичь желанной цели.
Знаменательно, что в начале этой трудной работы Кубу поддержал П. Чайковский, высоко оценивший его прогрессивную деятельность. Тогда же он получил
денежную субсидию от Российской академии наук, которая помогла ему отправиться в научное путешествие в Болгарию, а также завершить свои занятия в области живописи в Париже.
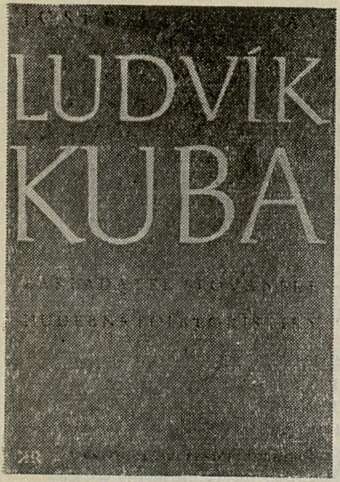
Станислав неоднократно подчеркивает живой интерес Кубы к неизученным явлениям. Впервые посетив Россию в 1885 году по приглашению профессоров И. Анненкова и А. Степовича, ученый восхищается народным многоголосным пением. Он первым делает очень ценные записи украинских народных многоголосных песен от рабочего хора в Полтаве и в других городах. Более сорока из них, вместе с русскими и белорусскими, Куба опубликовал в VI книге «Славянства» с пророческим эпиграфом — «Святой Руси, ее великому будущему».
Однако интересы Кубы не ограничивались лишь собиранием фольклора. Он стремился глубже познать жизнь и быт народа. Как талантливый художник, Куба делает ценные зарисовки народных инструментов, одежды, фиксирует движения народных танцев. Как наблюдательный писатель, он дополняет своими рассказами-очерками то, что пришлось ему видеть и слышать. Мало кто из фольклористов так тонко подмечал психологию народного исполнительства. Поныне большой интерес представляют его живые и красочные описания народного хорового пения, игры самоучек-скрипачей, лирников, народных оркестров. Он одним из первых указал на самостоятельность голосов в народном хоровом пении, на их тягу к импровизации и возникающие отсюда нестандартные гармонии. Плененный богатым даром импровизации народных умельцев, ученый все же рассматривал их творчество только в тесной связи с народной традицией, с народными школами певческого и исполнительского мастерства. Станислав справедливо называет Кубу фольклористом-социологом и этнографом, подчеркивая широту его научных интересов.
Прогрессивность взглядов ученого проявилась в понимании народной песни, которую он изучал не ради ее самой, а ради познания жизни славянских народов. «Она, — указывал Куба, — находится в самой тесной связи с народом, всеми своими внутренними и внешними признаками отражает направление его развития», она «могущественное средство, объединяющее людей и народы».
Ценными являются наблюдения Кубы в области интонационного сходства славянских песен, в особенности на территории этнических стыков, а также над миграцией песен. Он открыл так называемые «странствующие» мелодии. Однако тогда ученый не дошел еще до понимания явления полигенезиса — самостоятельного зарождения схожих сюжетов и напевов.
Станислав раскрывает большие заслуги Кубы в изучении народной музыки Балканского полуострова, в том числе сербского и болгарского фольклора. В Боснии, Герцеговине, Македонии Куба сделал 2673 записи народных песен и инструментальной музыки, необычайно сложных по своей интонационной структуре и ритмике, и глубоко их проанализировал.
В книге справедливо подчеркивается необходимость дальнейшей разработки намеченных Кубой принципов систематизации славянских мелодий. Однако автор соглашается далеко не со всеми положениями Кубы. Он, например, подвергает справедливой критике некоторые взгляды ученого на развитие фольклора, в частности его неоднократные высказывания о губительном влиянии цивилизации на развитие народного творчества, считает его неправым в том, что распространение гармонии в народном быту, в особенности в России, привело к разложению интонационного строя народной песни.
Но, раскрывая отношение Кубы к фольклору, Станислав порой слишком далеко уводит читателя от главной темы, пытаясь попутно решить целый ряд серьезных теоретических вопросов, как, например, о народном и профессиональном начале в народной музыке, о формах бытования и распространения фольклора, о классификации народных песен и т. п., которые требуют специального изучения. В книге немало повторов. К сожалению, попадаются и отдельные неточности. Так, нельзя ставить знак равенства между дудацкими и кобзарскими песнями. Неверно считать дорийский лад мало характерным для украинских песен: ведь он типичен для дум, часто наблюдается в карпатском фольклоре. На стр. 112 под изображением лиры подписано «кобза». Правда, эти недочеты не так уж существенны.
Главная цель, которую ставил перед собой автор книги — показать историческую роль Кубы в развитии славянской фольклористики, — безусловно достигнута.
В работе Станислава Людвик Куба предстает перед нами как прогрессивный ученый-гуманист, человек недюжинного ума, таланта и трудолюбия, как продолжатель дела своих выдающихся соотечественников П. Шафарика, Я. Коллара и других.
Книга окончательно развеивает миф о якобы дилетантском подходе Кубы к изучению славянского фольклора. Автор показывает также и его значительные заслуги в области гармонизации народных песен и их популяризации.
Перевод монографии на другие славянские языки, в частности русский, был бы очень желательным. Это позволило бы современным исследователям-славистам глубже ознакомиться с деятельностью выдающегося чешского ученого, взять на вооружение то ценное в его работах, что способствовало бы дальнейшему успешному развитию сравнительного изучения славянских музыкальных культур.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Песенка об утреннем городе 5
- Главное — любить музыку 7
- Поэт звуков 11
- Серьезная тема 13
- Искать новое! 15
- О путях развития языка современной музыки 19
- Старейшина эстонской музыки 31
- Признание миллионов 34
- Сонный ветер над полями 39
- Обаятельный музыкант 40
- Говорит Георг Отс 43
- Молодые хормейстеры 50
- Дорогу осилит идущий 55
- Если подвергнуть анализу 64
- Воспоминания о С. И. Танееве 70
- Размышления после пленума 79
- Внимание драматургии оперетты 82
- Имени Мусоргского 85
- Подвиг таланта 89
- В концертных залах 93
- Вернуть добрую славу 106
- Письма читателей 109
- «То флейта слышится…» 111
- В новом художественном качестве 114
- Соммер и его «Вокальная симфония» 121
- На земле Гомера 125
- Искусство свободной страны 128
- Первый труд 131
- На музыкальной орбите 134
- Ценный учебник 140
- «А Васька слушает да ест…» 142
- Основоположник музыкальной славистики 143
- По страницам «Ежегодника «Комише Опер» 145
- Нотография 149
- Новые грамзаписи 150
- Хроника 151



