циально писал в одной из своих статей Л. Нормет. Не буду поэтому прослеживать его интонационно-драматургическое развитие. Но дорога здесь та же «крупность мышления», на этот раз воплощенная в сочинении пламенной гражданской тематики.
Впрочем, есть у Тормиса и совсем иные образы — тонкие, мягкие.
Это в основном камерная лирика — голос с фортепиано. Вот несколько циклов, написанных на протяжении последнего десятилетия, — Четыре миниатюры и «Три цветка» на слова Ю. Лийва и «Букет звезд» на слова А. Суумана. Миниатюры — изящно озвученные картины времен года — подобны нежным карандашным зарисовкам. Стихотворный текст очень лаконичен, по две — четыре строки. Немногими, но точными штрихами композитор синтезирует их в поэтичнейшей музыкальной ткани: стекающие струйки первых весенних ручейков, неподвижно застывший в нагретом летнем воздухе пейзаж, отрывистый осенний ветер, заснувшие под белоснежной гладью снегов поля и реки. Цикл «Три цветка» — хрупкие портреты скромных представителей северной флоры. Несколько более углубленно в сравнении с этими циклами содержание цикла «Букет звезд» — все на внутреннем подтексте. Зарисовки природы уступают место зарисовкам человеческих настроений. И мелодика здесь более индивидуализированна, и «изгибы» ткани детальнейше разработаны.
К этой категории сочинений относятся и Три песни для женского хора на стихи Руммо, а также созданные в прошлом году «Осенние пейзажи» (автор текста — В. Луйк), с прозрачным, щемящим колоритом и превосходно выписанной хоровой фактурой. Расскажу о них подробней. Хотя, признаюсь, это страшновато, ибо есть в тончайшей лирике Тормиса нечто, во что, мне кажется, рискованно вторгаться словом, не боясь разрушить то удивительное и тайное, что создал композитор силой своего дарования и особой своей душевной организацией. В распоряжении композитора только женский хор a cappella. Из этого выразительного, но не слишком разнообразного «строительного материала» он «лепит» великолепный комплекс изящных и насыщенных звучностей, богатых гармоническими, полифоническими и динамическими находками; в нужный момент возникают и восьмизвучные аккорды.
Цикл состоит из семи небольших частей. Задача здесь сложная: так сказать, найти несколько разных оттенков одного цвета. Тонкие, пожалуй, даже изысканные стихи Луйк «просятся» в музыку. Это лаконичные картинки-настроения (как в латинской поговорке: «немного, но многое»). Несколько строк текста — и вы точно ощущаете детали ландшафта, а затем автор как бы отдает вам образ на дорисовку.
Первая часть — прощание с летом, его последние дни. Два фоновых элемента — выдержанная квинта и мерные половинки. На них «прочерчивается» легкий рисунок. Второй план — фраза «это позднее лето, позднее лето» у всего хора в имитации. Здесь зарождается прием, характерный в дальнейшем, — наложение трезвучий близких тональностей. Схвачены еще несколько красочных примет: гроздь рябины, вереск. И опять от пейзажа — к переживанию: «и это лето не вернется больше». Повисающий заключительный аккорд — сплетение до мажора (с нижним соль) и ре минора. Второй пейзаж — уже осенний. Повторяющаяся нисходящая фраза с наплывающими на нее имитациями словно запечатлевает бег облаков, гонимых осенним ветром. В среднем эпизоде ползущие кварты живописуют завывание ветра (хор поет на звуке «у»). Третья часть остро
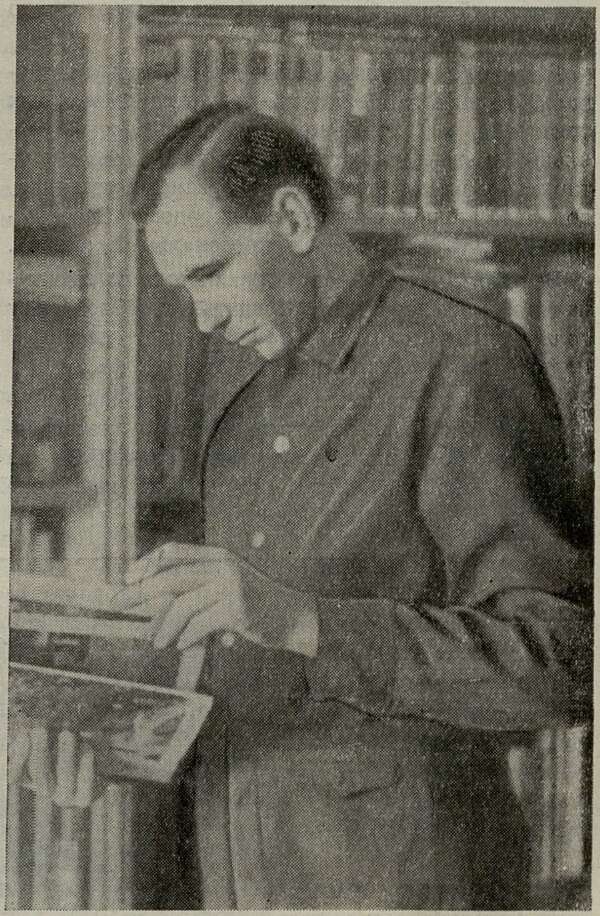
хроматична. В хоровых партиях это не столь уж частый эффект. Выразительность огромная.
Совсем невелика четвертая часть. Тормис «пробегает» по стихотворению изящными «уколами» сопрано, не сосредоточиваясь — как мне кажется, намеренно и справедливо — на изощренной игре образов текста (привожу стихотворение целиком в подстрочном переводе: «Красные до боли листья на растоптанной до грязи тропе. Восхищаюсь ими и топчу растоптанные до грязи листья на красной до боли тропе»).
В следующем номере («Ветер над мертвенно желтой пустошью») блестящее воображение Тормиса подсказало несколько точных приемов — эффектное glissando, параллельные секунды, затем терции у сопрано. Прекрасно звучат параллельные септаккорды в кульминации. Игра больших терций, благодаря которой достигается чередование в разных голосах ля диез и ля бемоль, в конце концов приводит к их одновременному звучанию.
В шестой части выделяется движение сопрано параллельными большими терциями, образующее целотонный ряд, положенный на выдержанную терцию альтов.
В финале успешно развиты приемы политонального письма. Заставка — сочетание минорных трезвучий фа, си-бемоль, до. Порывистый триольный рисунок проходит через всю часть, в имитации все время сталкиваются разные трезвучия, до параллельных ундецимаккордов. Завершение — опять тот же сложнотональный аккорд.
Все семь частей — ярко различные по эмоциональной «температуре». Создать такое под силу только по-настоящему талантливому мастеру и, добавлю, превосходному знатоку хора...
Образы лирических циклов Тормиса, несомненно, складывались под воздействием непосредственного контакта с «натурой»: где-нибудь на берегу лесной речушки, «на клеве» (какой же эстонец не рыбак или не охотник?)...
Я затронул здесь две грани творчества Тормиса, хотя есть у него и интересные оркестровые сочинения. Это прежде всего эпический монумент-оратория «Сын Калева» и две симфонические увертюры. Но именно упомянутые грани представляются мне определяющими сегодняшнее творчество композитора.
Что можно сказать о его стиле, о языке, на котором он говорит со слушателем? Самое главное: этот язык глубоко национален, начиная от общего ощущения колорита, который мы называем «северным». Не будем «этнографически придирчивыми»: под этим термином понимается, конечно, нечто обобщенно-образное: особая лапидарность, «варяжская» суровость или прозрачная нежная звукопись, лишенная пестрых, ярких красок. Далее, это, конечно, преимущественно диатоничный интонационный строй и, наконец, хор — исконное в эстонской музыкальной культуре. К этому я бы добавил, что в отличие от своих земляков-сверстников Тормис — воспитанник Московской консерватории (он учился у превосходных педагогов — профессора В. Шебалина по сочинению и Ю. Фортунатова по инструментовке). Быть может, этим объясняется полное отсутствие соприкосновения с немецкой школой (Хиндемит), что чувствуется у других, зато ощущается (хотя не очень определенно) русский элемент.
Все созданное Тормисом подготовило превосходную почву для решительного шага — сочинения оперы. Работа над «Лебединым полетом» (либретто Э. Ветемаа по повести О. Тооминга), вероятно, синтезирует многие элементы предшествующих пьес, каждая из которых что-то прибавила в композиторскую «копилку».
Тормис лишь на десять лет старше своей совсем юной республики, у них все впереди. Не очень часто встречаюсь я с этим скромным, обаятельным и талантливым музыкантом и накануне большого праздника эстонского народа — а это и наш общий праздник — хочу пожелать ему создания новых «букетов музыкальных звезд».
Образы Эстонии
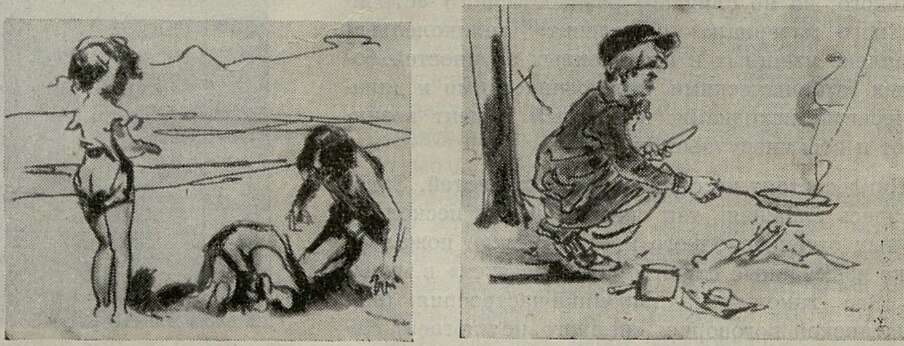
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Песенка об утреннем городе 5
- Главное — любить музыку 7
- Поэт звуков 11
- Серьезная тема 13
- Искать новое! 15
- О путях развития языка современной музыки 19
- Старейшина эстонской музыки 31
- Признание миллионов 34
- Сонный ветер над полями 39
- Обаятельный музыкант 40
- Говорит Георг Отс 43
- Молодые хормейстеры 50
- Дорогу осилит идущий 55
- Если подвергнуть анализу 64
- Воспоминания о С. И. Танееве 70
- Размышления после пленума 79
- Внимание драматургии оперетты 82
- Имени Мусоргского 85
- Подвиг таланта 89
- В концертных залах 93
- Вернуть добрую славу 106
- Письма читателей 109
- «То флейта слышится…» 111
- В новом художественном качестве 114
- Соммер и его «Вокальная симфония» 121
- На земле Гомера 125
- Искусство свободной страны 128
- Первый труд 131
- На музыкальной орбите 134
- Ценный учебник 140
- «А Васька слушает да ест…» 142
- Основоположник музыкальной славистики 143
- По страницам «Ежегодника «Комише Опер» 145
- Нотография 149
- Новые грамзаписи 150
- Хроника 151



