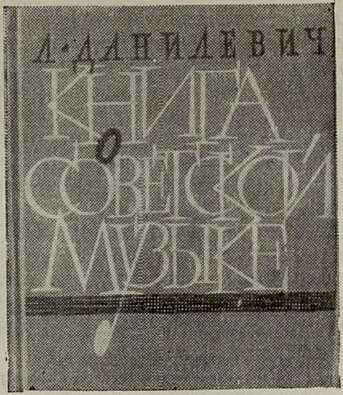
ментов и фортепиано. Из произведений этого жанра получила известность лишь соната В. Крюкова для альта и фортепиано (1921 г.). Фортепианные сонаты писали Н. Мясковский, Ан. Александров, С. Фейнберг, Ю. Шапорин, Д. Шостакович, Д. Кабалевский, Л. Половинкин. В своей значительной части эти произведения отразили влияние различных модернистских течений» (стр. 117). Думается, что такая «сплошная» оценка камерного творчества тех лет по меньшей мере спорна и, во всяком случае, ее следовало бы убедительно аргументировать.
Стремясь обобщить стилевые отличия творчества Мясковского (того периода), автор замечает: «Сложно сплетенная сеть хроматизмов, диссонантная, порой несколько "вязкая" гармония, нервные ритмы, как бы тормозящие движение и тем самым придающие ему еще большую напряженность, — вот некоторые черты стиля Мясковского, проявившиеся и в более поздних его сочинениях» (стр. 199). Следует заметить, что указанные «некоторые черты стиля» автор не индивидуализирует и что они не образуют типичных стилевых особенностей творчества Мясковского (лежащих в более глубокой сфере его музыки), являясь лишь общими признаками, которые можно найти и вместе и порознь в сочинениях различных композиторов. Стараясь уловить характерные черты творчества Свиридова, автор пишет, что он «тяготеет к прозрачности, иногда графичности изложения, экономии выразительных средств, лаконизму» (стр. 375). И здесь взяты признаки второго ряда, не самые существенные, а потому индивидуальные черты стиля оказываются не раскрытыми. Разве, например, Лядову несвойственны прозрачность, графичность и лаконизм?
Другая оценка: «В "Леди Макбет Мценского уезда" отрицательно сказалось натуралистическое воспроизведение грубости, пошлости, зверства. Наряду с мрачно-патологическим отображением насилий, убийств большое место занимает преувеличенная карикатурность, далекая от подлинно реалистической сатиры»... (стр. 340). Категоричность оценки и здесь подменяет разговор по существу об этом произведении, вновь поставленном недавно на нашей сцене и за рубежом. Недостаточная аргументированность или ошибочность ряда оценок, допускаемая автором по отношению к крупным явлениям советской музыки, проистекает, по-видимому, от приверженности к сложившимся уже, хотя и нуждающимся в изменениях суждениям и от склонности рассматривать стилевые признаки не в их развитии и существе, а в статике.
Приведем еще один пример таких оценок. Говоря о раннем творчестве Прокофьева, автор замечает: «Прокофьев отдал также дань модернистскому культу "варварства", первобытной грубой силы. Одно из выражений этого культа — балет И. Стравинского "Весна священная"» (стр. 315). Досадно, что автор ограничивается здесь только терминологическим осуждением. Читатель книги может теперь услышать и увидеть балет «Весна священная» и ему не будет безразлично, соприкасается ли он с «модернистским культом» или с музыкой, выходящей за его пределы. Не исследуя этой важной темы, как и многих других, и уклоняясь от дискуссии (а как рад был бы, думается, читатель живым спорам в книге о музыке), автор отстраняет от себя достаточно много существенных, злободневных проблем современной музыки.
Автор строит свой труд с той же периодизацией, как и в «Истории русской советской музыки», по той же конструктивной схеме (сперва общие очерки, затем изложение по жанровым признакам). Можно даже сказать, что, следуя принципам «Истории», повторяя почти тот же объем фактического материала, автор как бы пересказывает в своем однотомнике четырехтомник. Но такая усложненная конструкция книги и принцип изложения огромной массы фактического материала повлекли многочисленные повторы. Стремление перечислить обширный фактический материал помешало раскрыть его существо. Главное часто затеняется второстепенным. Мелькание фамилий авторов и названий произведений вызывает схожесть оценок. Все это, естественно, снижает увлеченность читателя книги и познавательное ее значение.
Книга претендует на освещение опыта не только русской музыки, но и музыкальных культур братских республик (в этом одно из ее отличий от упомянутой «Истории»). Однако проблема развития национальных музыкальных культур в книге оказалась лишь затронутой. О музыке братских республик упоминается часто лишь попутно. Вот несколько тому примеров. В разделе песен 20-х — 30-х годов говорится: «В Белоруссии песни писали А. Туренков ("К солнцу", "Кузнецы"), И. Любан» (стр. 51). И только! О песенном творчестве республик Закавказья: «Ряд песен написали композиторы Грузии — А. Баланчивадзе, А. Букия, И. Туския, Р. Габичивадзе, композиторы Армении, Азербайджана и других республик» (стр. 254). «...Теперь пора, — говорит автор, — подвести некоторые итоги развитию музыкального творчества в республиках Советского Союза» (стр. 274), затем следует перечень фамилий, сочинений, выбранных порой случайно, без попыток осмыслить сам процесс становления национальных культур. Так, например, 20 строк посвящается республикам Прибалтики, а далее: «от берегов Балтийского моря перенесемся в Среднюю Азию»... Но и Средняя Азия представлена в этом разделе тою же скороговоркою. «А в это время в эстонском "городке студентов" Тарту...» «Из Тбилиси перенесемся в Уфу» (стр. 441).
Некоторые общие выводы, к которым Данилевич приходит в итоге своих обзоров, порой расплывчаты и опять же излишне категоричны. Так, например, на стр. 360 читаем: «Говоря о современном
состоянии советского музыкального творчества, надо иметь в виду два обстоятельства. У нас есть крупные достижения, они радуют всех, кто любит музыку. Вместе с тем наше творчество еще не перешагнуло новый рубеж, который оно должно перешагнуть, не достигло нового качественного уровня, которого оно должно достигнуть». Такая «вечная формула» настолько обща, что применима ко многим этапам развития музыки, не определяя по существу ни одного из них. Малосодержательным представляется и следующий вывод автора. «Песенное творчество после большого подъема, когда возникли всемирно известные песни о мире, в своей значительной части потускнело, захирело» (стр. 379). Такие «резолютивные» оценки не раскрывают сложных процессов песенного творчества и не ориентируют читателя в перспективах. Не обогатит читателя и такое афористическое утверждение: «Легкая музыка должна быть действительно легкой и в то же время художественной» (стр. 382).
Популярный очерк, как известно, предъявляет автору очень высокие требования. Такой очерк должен быть увлекательным и по изложению. Язык автора книги несколько неровен, эклектичен. То мы ощущаем сухую, докладную манеру изложения («Перед композиторами Прибалтики стоят задачи расширить образную сферу своего творчества, преодолеть известную статику, однообразие приемов, сказывающееся в некоторых произведениях», стр. 421), то проскальзывает несколько наигранная патетичность («Шаги... Все ближе... ближе... Идет Отелло», стр. 368; или «Напрасно тщится свирепый Надир-шах овладеть крепостью, обороняемой Татулом», стр. 88), то встречаем манерность, «красивость» («Темнеет парижское небо, холодный огонь пестрых реклам бушует на улицах и площадях», стр. 442; или «Радость здесь сверкает, как вино в хрустальных бокалах», стр. 258) и т. п. Такая стилистическая пестрота затрудняет чтение.
«Книга о советской музыке» Данилевича в том виде, как она издана, может как материал быть известным подспорьем для лекторов, заинтересует читателя отдельными своими страницами, но в целом представляется еще сырым, незавершенным трудом, который поспешили издать (редактор Т. Лебедева), не представив себе достаточно реально уровень сильно возросших читательских требований.
*
Первый опыт
Б. Левик
Уже много лет назад перед бывшим музыкальным издательством была поставлена задача — выпустить наряду с другими учебными пособиями учебник по истории зарубежной музыки вплоть до наших дней. Однако эта проблема все еще не разрешена полностью. Только в 1963 году появилась первая книга, посвященная истории зарубежной музыки этого периода, — очерки по истории зарубежной музыки первой половины XX века И. Мартынова. Хотя они не претендуют на роль учебника или учебного пособия, тем не менее студенты и педагоги консерваторий безусловно будут обращаться к этой книге.
Автор взял на себя чрезвычайно сложную задачу — в кратчайшей форме изложить историю современной музыкальной культуры стран Европы, Азии и Америки. Выполнить такую задачу несомненно много труднее, чем написать историю мyзыки классического и доклассического периодов. В данной области уже накоплен опыт, сложились традиции и взгляды, есть богатейший материал, который дает возможность рождения оригинальной концепции; история же современной зарубежной культуры во многом нехоженная тропа. В этом заключается особая трудность, вставшая перед автором.
Книга обладает бесспорными достоинствами. Впервые в работе советского автора говорится о музыкальной культуре Японии, Монголии, Кореи, Вьетнама, Мексики, Кубы, Боливии, Парагвая, Уругвая, Чили. Музыкальную жизнь капиталистических стран Мартынов старается обрисовать в ее позитивных и негативных чертах: с одной стороны, речь идет о деятельности прогрессивных музыкантов, стремящихся в непомерно трудных условиях создавать демократическое, нужное народу искусство, с другой — упоминаются реакционные направления (додекафония, конкретная электронная музыка и т. д.).
Не вызывает возражений периодизация, предложенная автором: 1) до Великой Октябрьской революции в нашей стране; 2) до окончания второй мировой войны и образования мировой социалистической системы; 3) до наших дней. Конечно, различные тенденции, как и творчество некоторых композиторов, не укладываются в рамки этих периодов; но такая периодизация, составляющая разделы вводной части книги, где обрисована общая картина состояния современного зарубежного искусства, является естественным каркасом всей книги.
Однако, читая очерки, все время ощущаешь известную неудовлетворенность. Прежде всего, такой огромный, сложный материал, такое множе-
_________
И. И. Мартынов. История зарубежной музыки первой половины XX века. Очерки. М., Музгиз. 1963, 302 стр., тираж 15000 экз.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Лишь о тебе все думы сыновей 5
- Вперед, к новым победам! 7
- Дружбе крепнуть в веках 11
- Шестьдесят лет большому художнику 15
- Впечатления и мысли 23
- По большому счету 27
- В музыкальной Бурятии 30
- По поводу терминологии 33
- Реплика Вл. Протопопову 35
- Молодые годы 38
- Не о том спорим, товарищи! 47
- Традиции и новаторство 52
- О современной опере 56
- Звучит Мусоргский 58
- Чешская премьера 61
- Снова «Конек-горбунок» 66
- Гости из США 69
- «Опера нищих» 75
- Имени советского композитора 80
- Поет «Трембита» 85
- В классе рояля 88
- Шаляпин поет Даргомыжского 93
- Из воспоминаний 102
- Песни Эрнесакса 106
- Кларнет и фагот 107
- Камерный оркестр 107
- Молодые певцы 108
- «Гармония мира» 110
- Письмо из Ленинграда 111
- Болгарские музыканты 113
- Серж Бодо 114
- Молодежный хор 115
- Актер песни 116
- Песня и голубой экран 118
- Письмо в редакцию 120
- Зденек Неедлы — ученый-марксист 122
- Надя Буланже — учитель композиции 126
- Сабин Дрэгой 128
- Четыре дня в Веймаре 132
- Музыкальные встречи 135
- Друзья и враги фольклора 138
- «Книга о советской музыке» 140
- Первый опыт 142
- «Вопросы вокальной педагогики» 144
- Труды чехословацких музыкантов 145
- Альбом легких переложений для фортепиано в четыре руки. Тетради 1, 2 и 3 147
- М. Равель. Сонатина для фортепиано 148
- Новые записи советской музыки 148
- Наши юбиляры: Г. П. Таранов 149
- Наши юбиляры: З. М. Шахиди 150
- Искусство вдохновляет труд 151
- Для тех, кто в море 153
- Сокровищница песен 153
- «Анютины глазки» 154
- Мои планы 154
- Да, сатирическую! 155
- Татарский театр оперы и балета им. Мусы Джалиля 156
- «Катерина Измайлова» 157
- «Царская невеста» 157
- Они пришли в музыкальный театр 158
- Добро пожаловать! 159
- Планы и перспективы 159
- Танцуют челябинцы 160
- Это большая радость 160
- Удача молодой певицы 161
- Премьеры 161
- «Сердце балтийца» 162
- Лиха беда начало 162
- Растет талантливая смена 163
- Наша библиотека 163
- Музей русского балета 164
- Советский балет в репертуаре музыкальных театров за 1963 г. 165
- Памяти ушедших. Л. М. Курганов 166
- Памяти ушедших. И. З. Алендер 166



