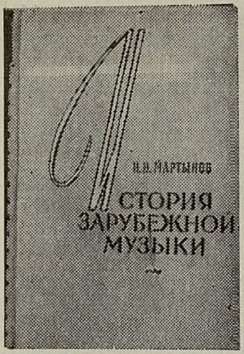
ство разноречивых явлений невозможно уложить в «прокрустово ложе» девятнадцати печатных листов. Непонятно в связи с этим, чем руководствовалось издательство, когда определяло объем книги. Вот и получилось, что большая часть «Очерков» напоминает страницы более или менее подробного справочника. В книге имеется перечень имен с такими лаконичными характеристиками, что они почти ничего не дают читателю (разделы о музыкальной культуре Бельгии, некоторых стран Латинской Америки, Японии и т. д.) Предлагается непосильная задача: запоминать незнакомые фамилии композиторов, не имея представления ни об одном написанном ими произведении. Нотных примеров в книге мало, во многих необходимых, казалось бы, случаях они вовсе отсутствуют.
К сожалению, и там, где изложение более развернуто, многих важных сведений не хватает. А порой, что еще важнее, остается неясной основная проблематика. Так, не создается четкого представления о том, что же такое модернизм и какие «измы» объединяются этим понятием. Автор книги вправе высказать и отстаивать свою точку зрения в данном вопросе, но его определения противоречивы и путаны. На стр. 66 он пишет: «Франция стала родиной многих модернистских школ и направлений — символизма в поэзии, импрессионизма и кубизма в живописи». Выходит, что живопись великих импрессионистов: Монэ, Ренуара, Дега — это только модернизм? Еще более неясным становится вопрос о модернизме в разделе, посвященном Регеру, который, как правильно говорит автор, находился «под сильным влиянием Шумана и Брамса», опирался в то же время и «на баховскую полифоническую традицию», «был далек от стремления к ниспровержению традиций» (стр. 28). Но тут же оказывается, что Регер был «одним из лидеров немецкого музыкального модернизма». Теперь раскроем 5-ю страницу, где написано: «Идейное оскудение сочеталось у модернистов с отказом от лучших традиций классики и народного творчества, объявленных ими безнадежно устаревшими». Как же это сочетать с приведенной только что характеристикой Регера? Когда же автор обнаруживает и в вокальной лирике Гуго Вольфа приближение к модернизму (стр. 47), вопрос окончательно запутывается.
Говоря о сущности додекафонии, автор не дает достаточно ясного объяснения. Не показывает, почему искусственная комбинация из двенадцати звуков и правила их организации сковывают волю и фантазию композитора.
Здесь же, в разделе о Веберне, ничего не сказано о серийной технике. Только на стр. 95 впервые появляется это понятие, причем без всякого комментария. Но ведь читатель не обязан обращаться к другим источникам, чтобы понять терминологию, связанную с новейшими «авангардистскими» течениями в буржуазном музыкальном искусстве.
Многого недостает в рассказе о Малере: не раскрыты идейный мир его музыки, его утопическо-гуманистические идеалы; среди песенных циклов не названы «Песни об умерших детях» на слова Рюккерта. На стр. 52 почему-то дается ссылка на Соллертинского, который «писал о связи музыки первой симфонии с "Песнями странствующего подмастерья"». Будто до Соллертинского не было известно, что в первой и третьей частях Первой симфонии Малера использована эта музыка. Упоминая о Второй симфонии Малера, необходимо было сказать, что в ней композитор обратился к своей же собственной музыке из вокального цикла «Чудесный рог мальчика».
Привлекательно написаны страницы, посвященные Сибелиусу. Но почему-то автор ни словом не обмолвился о роли финского эпоса «Калевала» для его творчества и о четырех легендах, одной из которых является его знаменитый «Туонельский лебедь»? Ведь это одна из важнейших сторон творчества классика финской музыки.
Трудно согласиться с характеристиками отдельных произведений различных композиторов, например ранних опер Хиндемита («Святая Сусанна», «Убийца, надежда женщин» и др.).
В книге множество фактических ошибок, неточных формулировок (редактор — В. Панкратова). Чтобы не быть голословными, приведем лишь некоторые наиболее существенные из них.
В главе о Малере на стр. 52 говорится, что финал его Четвертой симфонии написан для оркестра и контральто соло, и на стр. 58 в перечне главных произведений мы узнаем, что в этой симфонии участвует колоратурное сопрано. В действительности же Четвертая симфония написана для симфонического оркестра и лирического сопрано.
В главе о Р. Штраусе Г. Гофмансталь ошибочно назван либреттистом оперы «Саломея», в то время как она написана на текст Оскара Уайльда в переводе Г. Лахманн. В качестве автора либретто оперы «Женщина без тени» Р. Штрауса называется Стефан Цвейг вместо Гофмансталя. На стр. 19, 27, 28 почему-то настойчиво указывается дата смерти Р. Штрауса — 1948 год, между тем он умер в 1949 году.
В любом солидном музыкальном словаре можно найти сведения о том, что А. Дворжак был директором Нью-Йоркской консерватории в 1892–1895 годах, а не в 1895–1899 годах, как это указывается в «Очерках» (стр. 273).
По какому-то недоразумению К. Орф в «Очерках» становится автором оперы «Умница и луна» (стр. 36), в то время как ему принадлежат оперы «Умница» и «Луна». Кстати, отметим, что в «Кармина Бурана» Орфа не четыре (стр. 37), а три части с прологом.
Непонятно, как может быть основой оперного стиля Дебюсси предельно детализированная ариозно-речитативная мелодия, идеально передающая «декламацию стиха» (разрядка моя — Б. Л.), когда общеизвестно, что текст оперы Де-
бюсси, принадлежащий Метерлинку, не стихотворный, а прозаический (стр. 76).
В «Болеро» Равеля тема впервые звучит не у гобоя (стр. 84), а у флейты. Это известно любому любителю музыки. Бразильский композитор Вилла-Лобос родился не в 1886 (стр. 291), а в 1887 году. Он автор не пяти, а девяти опер и не шести, а двенадцати симфоний. Ничего не сказано о том, что ему принадлежат также 15 балетов.
Перечислить все замеченные ошибки, часть которых, безусловно, типографские опечатки, не представляется возможным, да и нет в этом особой необходимости. Кстати, совершенно недопустимо, что издательство не приложило к книге список опечаток. Эта система замалчивания брака издательской работы в последнее время была характерной для бывшего Музгиза. И очень важно, чтобы вновь организованное издательство «Музыка» не восприняло этой традиции.
Написать книгу по истории музыки стран Европы, Америки и Азии конца XIX — первой половины XX века при современном уровне нашего музыкознания в данной области, думается, не по плечу ни одному автору. Поэтому необходимо привлечь к созданию такого типа труда коллектив музыковедов, углубленно работающих над отдельными темами современного зарубежного искусства.
Эта задача должна занять внимание наших научно-исследовательских учреждений, к сожалению пока, видимо, не разрабатывающих проблемы современного зарубежного музыкального искусства во всем его историческом объеме.
*
«Вопросы вокальной педагогики»
П. Понтрягин
Появившаяся в витринах нотных магазинов книга под заглавием «Вопросы вокальной педагогики» быстро разошлась. Среди материалов сборника наибольший интерес представляют статьи А. Саркисяна и Л. Дмитриева.
В статье «О некоторых вопросах вокального искусства» А. Саркисян восстает против расчлененного метода работы при обучении пению, который является устарелой традицией, основанной на «отсутствии верного взгляда на работу голосового аппарата как аппарата, работающего целостно, во взаимосвязи всех своих отделов» (стр. 10).
Саркисян правильно критикует тех, кто, признавая «существование тесной функциональной взаимосвязи в процевсах звукообразования»... «при изложении конкретных методологических установок рекомендуют тот же порочный метод изолированного развития различных отделов голосового аппарата» (стр. 11).
Автор прав, обращая внимание педагогов на «слуховую гигиену» (стр. 25), на значение развития у студента «творческого стремления» (стр. 26).
В статье Л. Дмитриева главное внимание направлено на объяснение артикулярных органов в пении с позиций последних научных данных. Подчеркивая многообразие современной педагогической практики, Дмитриев отмечает и весьма большую противоречивость во взглядах на некоторые вопросы.
Ценность статьи состоит и в том, что в ней представлены важные сведения о труднодоступных отделах голосового аппарата в процессе естественной фонации.
Эти сведения обогащают наши знания и позволяют педагогам вырабатывать новые вокально-методические приемы воздействия на работу голосового аппарата.
В статье обращается внимание певцов и педагогов на необходимость правильно различать субъективное ощущение звука, рождающегося в голосовом аппарате, и объективную его сущность.
Дмитриев приводит ряд положений из книги П. Органова «Певческий голос и методика его постановки» и на основе исследований певческого процесса у ряда сформировавшихся певцов доказывает несостоятельность некоторых его требований.
В статье очень правильно подчеркивается необходимость рассмотрения речевого и певческого аппарата в единстве со слуховым.
Учет этой взаимосвязи дает возможность правильно направлять и контролировать певческий процесс.
Однако некоторые утверждения Дмитриева весьма спорны и весьма коряво выражены, например: «чем больше выходное отверстие — рот, тем лучше, с наименьшими потерями этот звук достигает наружного пространства, тем сильнее он будет для слушателя» (стр. 90).
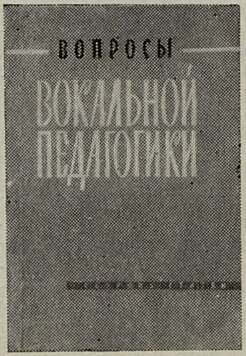
Практическое значение статьи Дмитриева состоит в том, что в ней достаточно убедительно доказаны положения, знание которых необходимо как педагогу-вокалисту, так и певцу, концертмейстеру, дирижеру и музыкальному режиссеру.
Автор другой статьи, Л. Некрасова, принадле-
_________
Сборник статей. Музгиз, М., 1962, 146 стр., тираж 7000 экз.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Лишь о тебе все думы сыновей 5
- Вперед, к новым победам! 7
- Дружбе крепнуть в веках 11
- Шестьдесят лет большому художнику 15
- Впечатления и мысли 23
- По большому счету 27
- В музыкальной Бурятии 30
- По поводу терминологии 33
- Реплика Вл. Протопопову 35
- Молодые годы 38
- Не о том спорим, товарищи! 47
- Традиции и новаторство 52
- О современной опере 56
- Звучит Мусоргский 58
- Чешская премьера 61
- Снова «Конек-горбунок» 66
- Гости из США 69
- «Опера нищих» 75
- Имени советского композитора 80
- Поет «Трембита» 85
- В классе рояля 88
- Шаляпин поет Даргомыжского 93
- Из воспоминаний 102
- Песни Эрнесакса 106
- Кларнет и фагот 107
- Камерный оркестр 107
- Молодые певцы 108
- «Гармония мира» 110
- Письмо из Ленинграда 111
- Болгарские музыканты 113
- Серж Бодо 114
- Молодежный хор 115
- Актер песни 116
- Песня и голубой экран 118
- Письмо в редакцию 120
- Зденек Неедлы — ученый-марксист 122
- Надя Буланже — учитель композиции 126
- Сабин Дрэгой 128
- Четыре дня в Веймаре 132
- Музыкальные встречи 135
- Друзья и враги фольклора 138
- «Книга о советской музыке» 140
- Первый опыт 142
- «Вопросы вокальной педагогики» 144
- Труды чехословацких музыкантов 145
- Альбом легких переложений для фортепиано в четыре руки. Тетради 1, 2 и 3 147
- М. Равель. Сонатина для фортепиано 148
- Новые записи советской музыки 148
- Наши юбиляры: Г. П. Таранов 149
- Наши юбиляры: З. М. Шахиди 150
- Искусство вдохновляет труд 151
- Для тех, кто в море 153
- Сокровищница песен 153
- «Анютины глазки» 154
- Мои планы 154
- Да, сатирическую! 155
- Татарский театр оперы и балета им. Мусы Джалиля 156
- «Катерина Измайлова» 157
- «Царская невеста» 157
- Они пришли в музыкальный театр 158
- Добро пожаловать! 159
- Планы и перспективы 159
- Танцуют челябинцы 160
- Это большая радость 160
- Удача молодой певицы 161
- Премьеры 161
- «Сердце балтийца» 162
- Лиха беда начало 162
- Растет талантливая смена 163
- Наша библиотека 163
- Музей русского балета 164
- Советский балет в репертуаре музыкальных театров за 1963 г. 165
- Памяти ушедших. Л. М. Курганов 166
- Памяти ушедших. И. З. Алендер 166



