КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ
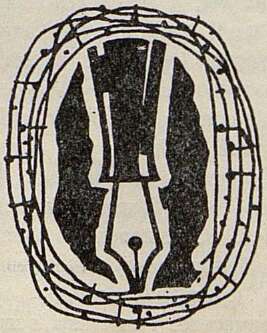
Е. Добрынина
Это нужно живым
Реквием как образ не однажды привлекал творческое воображение Дмитрия Кабалевского. Тяготение это воплощалось в разные периоды творчества композитора, разными средствами, в разных жанрах. Можно, например, вспомнить созданную в тридцатые годы третью симфонию, «Реквием». Для многих симфонических сочинений той поры типичным было такое, как в третьей симфонии, сопоставление остроэкспрессивных, декламационных по характеру интонаций и лапидарно-плакатной мелодики. Приподнятость, ораторский пафос (временами переходящий в выспренность) отличали траурный образ второй части, написанной на стихи Н. Асеева.
Можно вспомнить другие, более поздние сочинения. Например, законченную в 1947 году оперу «Семья Тараса» (первая редакция). Реквиемом, по существу, является дуэт Евфросиньи и Тараса, оплакивающих убитую фашистами Настю. Глубоко в душу западает эта сцена: безутешный плач матери, близкий народному причету, и предшествующие ему короткие динамичные фразы в оркестре. Они словно горестный комментарий автора к происходящему. Чудится, будто сам он стоит рядом с Евфросиньей, вместе с нею ужасается свершившемуся злодеянию и предается отчаянию.
«Реквиемное» настроение в медленной части Концерта для виолончели совершенно иное. Не уступая плачу Евфросиньи в наполненности чувства, музыка здесь не отличается какой-либо взрывчатостью, драматической обостренностью. Это печаль человека, уже пережившего свою скорбь; человека, нашедшего в себе мужество осмыслить тяжкое горе и определить свой дальнейший жизненный путь.
Или вспомним медленную часть Четвертой симфонии — Ларго. В этой суровой музыке нет всплесков открытого, за душу хватающего горя. Близкая русским народным напевам (обратим внимание на уравновешенность формы, основанной на повторном, вариантном развертывании), она носит ярко выраженный эпический ха-
рактер, ассоциируется с грандиозным траурным митингом. Явственно звучащая в Четвертой симфонии тема гражданской скорби продолжена и развита в новом произведении Дм. Кабалевского — «Реквиеме» на слова Роберта Рождественского, исполненном в прошедшем концертном сезоне в Москве, а затем в Ленинграде.
*
Пламенная гражданственная направленность замысла — вот что прежде всего роднит «Реквием» Кабалевского с реквиемами мастеров-классиков. Музыка эта, адресованная живым, призвана пробуждать в них не столько чувство горя, сколько мужество, — заставлять еще и еще осмысливать те жертвы, которые принесло человечество во имя грядущего:
Памяти
павших
будьте достойны!
Вечно
достойны!
Хлебом и песней,
Мечтой и стихами,
Жизнью
просторной,
Каждой
секундой,
Каждым
дыханьем
Будьте
Достойны!
Новый «Реквием» — это масштабная, одиннадцатичастная оратория с двумя хорами, оркестром, двумя солистами.
Ее литературная основа — не просто либретто. Р. Рождественскому, одному из самых одаренных молодых советских поэтов, удалось создать яркое по своим художественным качествам литературное произведение, своего рода обелиск: в стихах, как в надгробном монументе, нет никаких мелких деталей. Все, даже самые лирические чувства, даны «крупным планом», окрашены эпическим оттенком. Это ощущение укрупненности остается даже тогда, когда перед мысленным взором читателя возникают образы тех, «кто уже не придет никогда»: ни тени бытовой, житейской достоверности. Но смело, властно утверждается достоверность другая — психологическая. И облик «говорящих из тьмы» кажется почти что реальным, разве только чуть слишком суровым, словно в камне высеченным талантливой, любящей рукой. Любящей, но не чувствительной. Поэт всюду приглушает остроту вдруг вспыхивающей горечи — повторами, отстранениями, резкой сменой образов. Такая именно сдержанно-эпическая манера повествования и соответствовала как нельзя лучше давнему замыслу композитора написать о не пришедших с войны. Неслучайно он ведь не воспользовался другими стихами поэта на сходную тему — «Концерт», «Почем фунт лиха», «Крик родившихся завтра». Конечно, в принципе они могли бы послужить основой для некоторых эпизодов оратории, но эпизодов детализированных, декламационно-речитативных. А как раз такое «прочтение темы» чуждо Кабалевскому: мышление этого художника, обладающего тонким интеллектом, вкусом, мастерством, опытом, ярче и совершенней всего обнаруживает себя в мелодической насыщенности образов, истинно русской их напевности.
То же и в «Реквиеме», сочинении сложном, для глубокого и всестороннего восприятия которого вряд ли достаточны одно-два прослушивания. Лишь пристально изучая авторскую рукопись, начинаешь постигать, какую огромную творческую работу проделал композитор.
Единство высокого интеллектуализма и подлинного вдохновения отличает многие страницы сочинения. Оно свидетельствует еще раз: в творческой лаборатории композитора четко определена «своя» семантика средств музыкальной выразительности. Нередко, прослушав всего несколько тактов его музыки, мы ясно ощущаем, какие именно чувства и мысли хотел воплотить автор. Так определяются в творчестве Кабалевского образно-психологические связи сходных тем, гармонических комплексов, тональностей. Случайно ли, например, глубокое родство главной темы «Реквиема» — благородной, словно призывающей слушателя к вниманию, к внутренней сосредоточенности, — с темой «мыслей о вражеском нашествии» из «Семьи Тараса»? Случайно ли буквальное совпадение фраз детского хора «клянемся павшим героям» с интонациями Насти в момент решающего столкновения ее с фашистами («Нет, не вы, а мы здесь хозяева; хозяева на нашей земле»)? Случайна ли аналогия мелодических оборотов в меццо-сопрановом соло («все живое спасшим») — с нежными прикосновениями Насти в разговоре с Павликом к мыслям о будущей любви?
Что это — ограничение творческой фантазии? Повторение самого себя? Подмена поисков нового ремеслом? Нет. Сказывается здесь драгоценное свойство больших художников — уменье развивать свой круг настроений, оттачивать свою тему в искусстве. Невольно вспоминаешь
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Великий форум женщин земли 5
- Это нужно живым 13
- Знакомьтесь: молодость! 18
- Глубоко, оригинально 25
- Мысли о симфонизме 27
- Рождение песни 31
- Опыт художника 34
- Собиратель русских песен 37
- «Египетские ночи» 40
- «Муза и мода» 48
- Из воспоминаний о Танееве 54
- У нас полюбили «Турандот» 59
- «Святоплук» на русской сцене 63
- Заметки об исполнительской критике 65
- Бурный талант 69
- В расцвете творческих сил 71
- Молодые певцы Свердловска 72
- Большой успех советских скрипачей 75
- Рассказ рабочего 77
- Кира Леонова 82
- Гости из Башкирии 83
- Фортепианные вечера 84
- Лорин Маазель в Москве 87
- Органисты из Чехословакии и ГДР 88
- С песней по штатам Мексики 90
- Маленький театр песни 91
- В жизни раз бывает... 95
- 38. Виноградов В. Об одной живой традиции 97
- На целине 102
- Пять лет спустя 105
- В праздник и будни 107
- Сделать предстоит многое 111
- Хочется верить 112
- Наше общее дело 113
- Братская встреча. В борьбе за высокие идеалы 115
- В музыкальном Бухаресте 121
- Фестиваль современной музыки в Загребе 125
- Рабочие песни негритянского народа 129
- Оружие в борьбе 132
- В защиту человеческого достоинства 134
- Письмо в редакцию 136
- Первый учебник сольфеджио 140
- Наследие ученого 141
- Наши юбиляры: Ф. М. Лукин 143
- Разные точки зрения 144
- Из иностранного юмора 146
- Музыка и… косметика 147
- Танец без движения 147
- Кто отгадает? 148
- «Уральская весна» 149
- Творческий отчет одесситов 151
- В гостях у автозаводцев 152
- Семинар молодых музыковедов 152
- [В гостях Л. Кулиджанов...] 152
- Для слушателей университетов культуры 153
- Они приняты в Союз 153
- Против конкурсомании 153
- Сердечно поздравляем! 154
- Накануне юбилея 154
- Сердечно поздравляем! [Юрий Васильевич Брюшков] 155
- Гости столицы. «Гопак» 155
- Два концерта, а надо бы один... 156
- Интервью с любителем музыки 157
- Интересный клуб 158
- Театр на колесах 159
- В помощь самодеятельности 159
- «Хотим слушать настоящую музыку!» 160
- Новые грамзаписи 160
- Музыка в фотографиях 161
- В двух часах езды 162
- Друг и соратник Ф. Шаляпина 163



