шее влияние на меня как на оперного дирижера — мои старшие коллеги или Шаляпин. Именно Шаляпин со всей наглядностью показал мне, что роль дирижера в музыкальном театре значительно шире и многообразнее, чем кажется на первый взгляд, и что наше профессиональное вооружение не может быть сведено к одной специфической технике дирижирования, овладеть которой, право, не так уже трудно!
Каждый раз, когда меня начинают спрашивать, как научиться дирижировать, что такое дирижер, в чем «тайна» нашего искусства, я невольно пытаюсь отшучиваться или вспоминаю изреченье Римского-Корсакова, что дирижерство — «дело темное». Ну, конечно же, надо владеть техникой своей профессии, тем более что возросшая изощренность композиторского письма требует порой особенно искусной мобилизации всех «внутренних ресурсов» оркестра. Но разве дело в одном ремесле, в одной технике?
Дирижер, на мой взгляд, должен быть прежде всего личностью самостоятельно и широко мыслящей. Здесь важны и хороший вкус, и волевое организационное начало, и то, что обычно называется «чувством современности», и — да не упрекнут меня в мистике или чем-либо подобном — специфическое обаяние артиста. Конечно, ему необходимо и умение раскрыть оркестру образ исполняемого, и... ох, как все же много требуется дирижеру! Дирижера в спектакле должно интересовать решительно все, начиная от авторской партитуры, которую необходимо, разумеется, донести с максимальной тщательностью и проникновением, и кончая светом и актерскими приемами. Дирижер обязан вникать во все: и в драматургию оперы и в режиссерские мизансцены, обращать внимание на частности сценического воплощения оперы, на грим и свет. Любой прорыв в едином процессе создания музыкального спектакля бьет прежде всего по музыке, мешает верному звучанию, раскрытию мира чувств и идей, волновавших композитора. Ибо все это музыка, та же музыка!..
За Ленинградским Малым оперным театром, где мне посчастливилось начиная с 1918 года проработать почти два десятилетия, в свое время закрепилось прозвище «лаборатория советской оперы». Здесь и рождались и ставились первые оперы ряда советских композиторов, ставших широко известными уже позднее. Неудивительно, что здесь мне удалось впоследствии осуществить и давнюю свою мечту, совершить «сценическое крещение» такого гигантского создания советской музыки, как «Война и мир» С. Прокофьева, которая долгое время не могла найти пристанища на оперных сценах.
Сейчас для меня очевидно, что вряд ли опыты этой «лаборатории» могли увенчаться успехом, если бы указанные принципы создания музыкального спектакля не стали незыблемым законом не только для меня как музыкального руководителя театра, но и для подавляющего большинства членов нашего коллектива.
И второй, столь же живительный закон — поиски нового, без чего также была бы немыслима полнокровная деятельность «лаборатории советской оперы».
Этот дух нового и чувство современности обнаруживались не только в постановке только что созданных произведений, но и в творениях, давно уже ставших классикой.
Я уже упоминал про нашу совместную с Мейерхольдом работу над «Пиковой дамой». Не скрою, что мысль о постановке родилась в своеобразном полемическом запале, когда нам с Всеволодом Эмильевичем пришлось смотреть эту оперу в Ленинграде с известным тенором в роли Германа. Артист пел так «эффектно» и так бессмысленно, «не по существу» созданного Пушкиным и Чайковским, и так много вампуки было вокруг, что Мейерхольд, наклонившись ко мне, стал говорить:
— Надо поставить такой спектакль, чтобы эту постановку им пришлось со сцены смыть (подобно тому, вероятно, как опытный художник-реставратор смывает с «записанного» почерневшего полотна слои грязи, мазки маляров, позднейшие наслоения...).
Это стремление вернуть людям красоту первоисточника в немалой мере воодушевляло меня в работе над «Пиковой дамой». Так же было и в дальнейшем, уже в годы пребывания в Большом театре, где мне довелось еще раз ставить ту же «Пиковую даму» и принять участие в возвращении на сцену вершин русской национальной оперы — «Сусанина», «Руслана и Людмилы». И вместе с тем ничто и никогда, пожалуй, так меня не увлекало и не захватывало, как реальная возможность стоять у колыбели нового... Вот почему таким подарком судьбы и представляется мне работа в Малом оперном театре, где это-то и стало самым главным!
Среди значительных и интересных произведений советских композиторов, обогативших наше искусство за последние годы, одним из самых примечательных по праву стала «Патетическая оратория» Г. Свиридова. Быть может, впервые нашло в ней такое образное музыкальное выражение поэтическое слово Маяковского. Слушаю ее по радио, радуюсь успеху, а в памяти невольно встает октябрьский день 1927 года, когда во время репетиции нового, необычного по характеру и форме героико-сатирического музыкального представления «Двадцать
пятое» режиссеру Н. Смоличу и мне вручили долгожданную телеграмму:
«Приеду Ленинград двадцать шестого привезу текст большой привет Маяковский».
Сейчас мало кто знает и помнит, вероятно, что классическое произведение советской литературы, поэта Маяковского «Хорошо!», первоначально создавалось как либретто для своеобразной сценической оратории. Ломая все представления об «оперном» спектакле, ее и ставил в честь первого октябрьского десятилетия МАЛЕГОТ. Одна за другой инсценировались главы поэмы, шли уже последние репетиции — через 10 дней премьера, а финала, слов для заключительного хора и апофеоза все еще нет! 26 октября Маяковский действительно
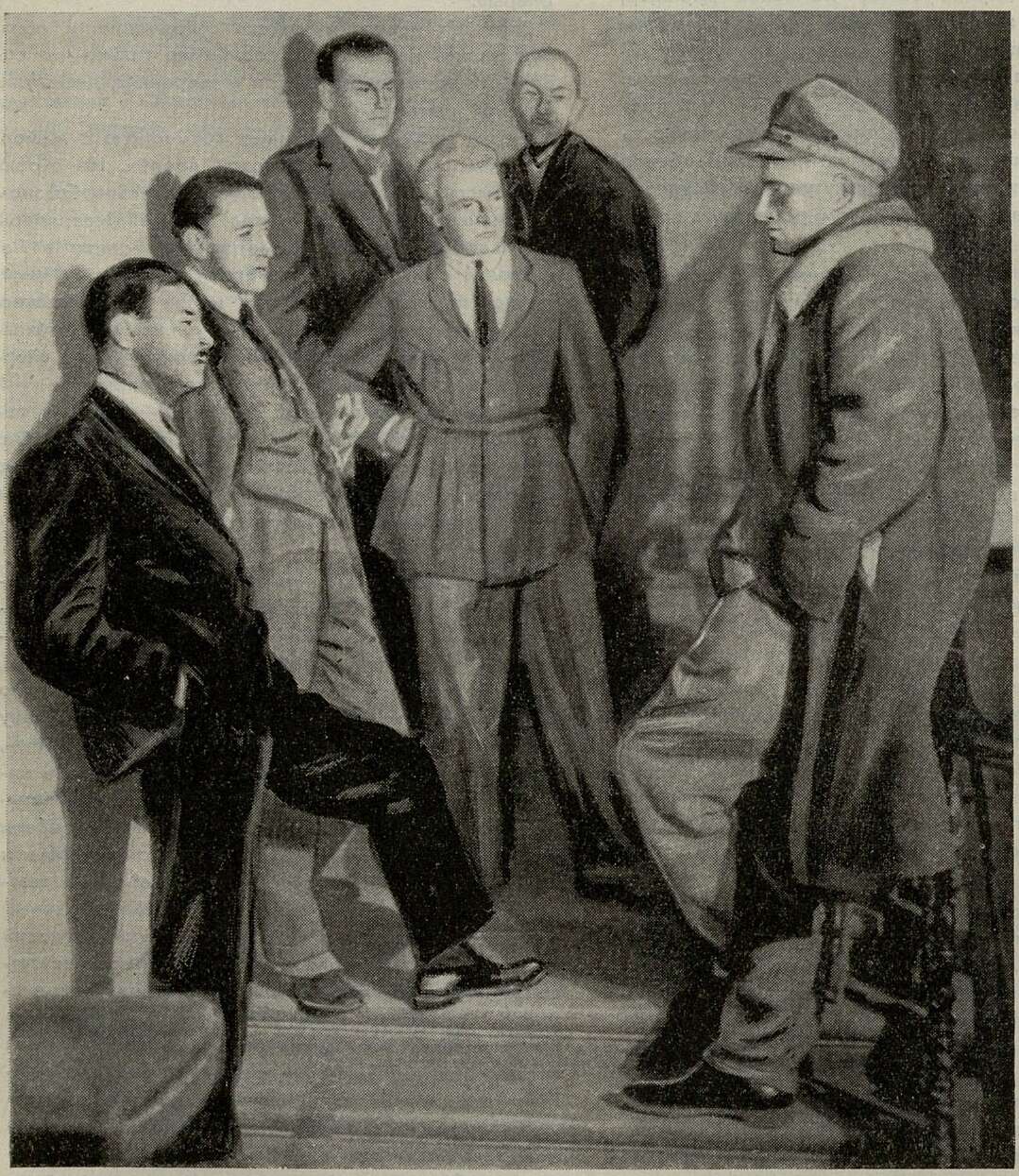
Разговаривать с Маяковским интересно даже на лестнице
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- У композиторов Закавказья 5
- Обсуждаем симфонию Р. Щедрина 13
- Казахская сюита 18
- Новые имена — новые надежды 22
- Совершенствовать методику преподавания 27
- Учить современной гармонии 29
- Нужны перемены 33
- Нерешенные проблемы 34
- Залог творческих достижений 36
- Дунаевский сегодня 38
- О переменности функций музыкальной формы 43
- Из писем П. И. Чайковского 50
- Открытое письмо 56
- Опера о Шевченко 59
- Актер оперетты 65
- Балет народной Венгрии 75
- Наш гость Вальтер Фельзенштейн 79
- Минувшее встает передо мною… 80
- Встреча с Прокофьевым 86
- Вэн Клайберн 91
- Джульярдцы 93
- Письмо из Латвии 94
- Что такое хоровая студия? 96
- Научить любви к музыке 102
- Это нужно всем 104
- Учитель пения — специальность 106
- Музыка на уроках литературы 108
- В плену догм 109
- Три экспедиции 119
- Музыка «страны тысячи островов» 129
- Традиции и современность 135
- На земле Маори 139
- Неутомимый изыскатель 143
- Шаг вперед 145
- Как же пишут композиторы музыку? 147
- Книга о Кутеве 149
- Коротко о книгах 150
- Нотография 151
- Новые грамзаписи 152
- Хроника 153



