НАШ ГОСТЬ ВАЛЬТЕР ФЕЛЬЗЕНШТЕЙН
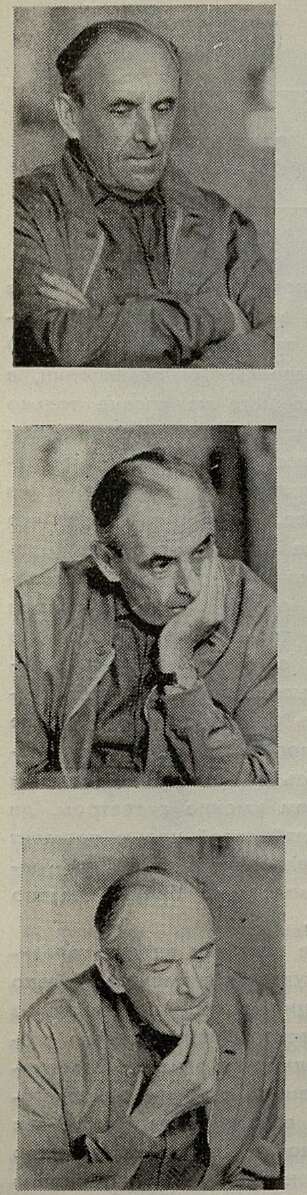
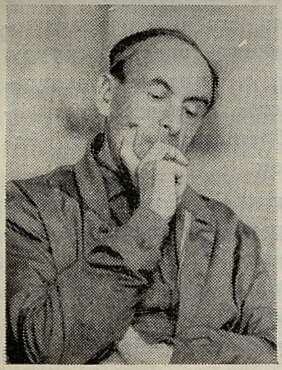
Музыка — начало всех начал.
Сделать музыку на сцене убедительной, правдивой и единственно возможным средством выражения — вот коренная проблема музыкального театра.
Я не могу назначить репетицию, а тем более начать репетировать какую-либо сцену, если не представляю себе совершенно точно, как будет оформлено сценическое пространство.
Для того чтобы плодотворно работать с художником-оформителем, я должен знать — что и как происходит в каждом действии спектакля.
Музыкальная драма требует жизненного пространства. Нужно найти для нее сценический мир, который как бы «обживается» ею, становится ее миром.
Я люблю реквизит. Он живет на сцене. Предметы реквизита нужны не только исполнителям, но и публике; для нее они реальны, осязаемы.
Петь на сцене без известной доли пафоса невозможно. Но очень важно, чтобы это была не ложная патетика, а нечто совсем иное, что мне хотелось бы назвать «духовным пафосом».
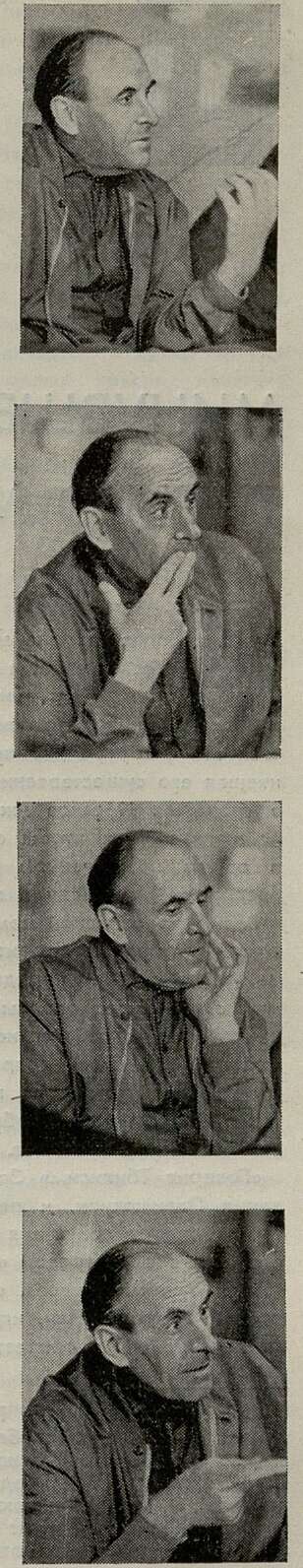
Фото С. Хенкина
Из прошлого советской музыкальной сцены
С. Самосуд
МИНУВШЕЕ ВСТАЕТ ПЕРЕДО МНОЮ...
Когда за плечами человека уже восемь десятков лет и неумолимая природа сдвинула его с привычного места в оркестре, где простоял почти полвека, музыка, сопровождавшая его с первых детских лет и всю жизнь наполнявшая его существование, все равно вовсю звучит в сознании. И таков уж человек: достаточно малейшего толчка, чтобы одна за другой, иной раз в самом неожиданном порядке (вернее сказать, беспорядке) оживали в памяти картины прошлого.
Радио из соседней комнаты доносит отзвук знакомой мелодии. Крутится диск пластинки, и... минувшее встает передо мною... Перебрасываемый с одной радиоволны на другую, я словно окунаюсь в море собственной жизни. В памяти, к сожалению сумевшей сохранить далеко не все, что следовало (а иной раз назойливо подсовывающей то, от чего бы охотно избавился!), настойчиво всплывают события давних лет.
«Говорит Тбилиси...» Звучит хор из «Даиси» Захария Палиашвили, и передо мной встает характерная фигура создателя оперы. Я вижу его рядом с собою в оркестровой «яме» старого тифлисского театра, где мы, совсем еще молодые, не то подростки, не то юноши, играем в оркестре какой-то «малороссийской» оперетты — он на валторне, я на трубе. А наутро — нам вновь бежать на занятия в музыкальное училище... Я вижу его в том же Тифлисе (и в те же далекие времена — начало века!) в каком-то совсем «нетеатральном» помещении, в большой захламленной комнате на спевке только что организованного Палиевым (так до революции звучала фамилия композитора) коллектива, составленного наполовину из любителей, наполовину из профессионалов-энтузиастов. Несмотря на то, что в казенном театре играла большая оперная труппа (а быть может, именно потому), мы намеревались поражать своими оперными постановками окраины Тифлиса... И не только операми широко известными, но и никому еще не ведомыми, композиторов, впервые открытых нами, таких же молодых, как мы... Моя роль была тут, правда, более чем скромной — в этом «оперном театре на колесах» я должен был играть в оркестре. Думал ли я тогда, что в дальнейшем именно с театром, да еще таким, который главной своей целью поставит интереснейшую и увлекательнейшую из задач — давать «путевку в жизнь» молодым, будет связано столько лет моей работы...
Рябит, трепещет сеточка голубого экрана телевизора. Несется хриплый стук аплодисментов. Только что закончилась трансляция нового спектакля из Ленинградского академического Малого театра оперы и балета. Вновь поднимается занавес. Взволнованные лица актеров. Взявшись за руки, они благодарно кланяются... А мне вспоминается тот же зал и та же авансцена, только той поры, когда театр еще звался Малым оперным, и я вижу, словно воочию, стремительно бегущего к барьеру оркестра Всеволода Мейерхольда, его непокорную седую шевелюру, орлиный профиль, его высокую, немного согнутую, всю устремленную вперед фигуру. Высоко подняв руки вверх, он энергично аплодирует, а затем широким жестом кланяется исполнителям... Немного погодя, обратившись ко мне, подчеркнуто громко выкрикивает:
— Почему актеры кланяются?.. Это пережиток крепостного театра. Мы, зрители, должны их благодарить. Мы должны им кланяться!..
Зорко всматривается Мейерхольд в лица актеров, выступающих в спектакле «Похищение из сераля» Моцарта. Он словно примеряет их к образам «Пи-
_________
«Вспоминая встречи с Прокофьевым...» — под таким заглавием была опубликована в «Советской музыке» (№ 4, 1961) одна из глав воспоминаний С. Самосуда, работу над которыми оборвала его кончина. В архиве выдающегося советского дирижера сохранился вариант введения к будущей книге. Литературная обработка С. Дрейдена.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- У композиторов Закавказья 5
- Обсуждаем симфонию Р. Щедрина 13
- Казахская сюита 18
- Новые имена — новые надежды 22
- Совершенствовать методику преподавания 27
- Учить современной гармонии 29
- Нужны перемены 33
- Нерешенные проблемы 34
- Залог творческих достижений 36
- Дунаевский сегодня 38
- О переменности функций музыкальной формы 43
- Из писем П. И. Чайковского 50
- Открытое письмо 56
- Опера о Шевченко 59
- Актер оперетты 65
- Балет народной Венгрии 75
- Наш гость Вальтер Фельзенштейн 79
- Минувшее встает передо мною… 80
- Встреча с Прокофьевым 86
- Вэн Клайберн 91
- Джульярдцы 93
- Письмо из Латвии 94
- Что такое хоровая студия? 96
- Научить любви к музыке 102
- Это нужно всем 104
- Учитель пения — специальность 106
- Музыка на уроках литературы 108
- В плену догм 109
- Три экспедиции 119
- Музыка «страны тысячи островов» 129
- Традиции и современность 135
- На земле Маори 139
- Неутомимый изыскатель 143
- Шаг вперед 145
- Как же пишут композиторы музыку? 147
- Книга о Кутеве 149
- Коротко о книгах 150
- Нотография 151
- Новые грамзаписи 152
- Хроника 153



