Р. Штрауса, Респиги, Дебюсси. Дирижер находит для ее передачи светлые, здоровые, земные краски, выявляя и характерные особенности стиля: динамизм, остроту и легкость Р. Штрауса, пышную красочность Респиги. У Дебюсси Тонс стремится ясно очертить контуры музыкальных образов, избегая изощренности, затуманенности.
Он, как никто другой из дирижеров, сумел с большой силой раскрыть внутренний драматизм и глубину мысли музыки Я. Иванова, особенно Восьмой, Девятой и Десятой симфоний.
Эдгар Тонс — в расцвете творческих сил. Хотя в его репертуаре около тридцати опер и десяти балетов, а также многие симфонические и ораториальные произведения, он работает сейчас еще больше, чем когда-либо раньше. Вот чем обусловлен непрерывный рост этого художника и большой интерес к его деятельности не только в Латвии, но и в Москве, в Ленинграде, где он часто выступает. Недавно, например, он поставил в Театре им. Кирова оперу венгерского классика Ф. Эркеля «Ласло Хуньяди». Планы талантливого дирижера обширны и определяются стремлением к новому, еще более трудному — к увлекательным открытиям.
Э. Иоффе
МОЛОДЫЕ ПЕВЦЫ
На любом спектакле этого театра — будь то «Катерина Измайлова» или «Валькирия», «Дон Карлос» или «Аида», «Кармен» или «Питер Граймс» — слушатель, заинтересованный исполнителем главной роли, получает на свои вопросы один и тот же ответ: это представитель молодого поколения, он всего несколько лет поет на сцене, это его вторая (или третья) роль. Руководство театра охотно поручает молодежи ведущие партии, ибо к этому есть все основания: хорошие голоса, хорошая школа, артистизм.
С первых же партий у молодых певцов Рижского театра складывается определенный стиль исполнения, роднящий разные творческие индивидуальности: пение сдержанное, строгое, без стремления поразить блестяще взятыми верхними нотами (часто эта скромная манера не приводит к шумному успеху: кажется, что все это очень просто и легко). Вместо погони за внешними эффектами — постоянная забота об ансамбле, о тщательной отделке даже самой броской и выигрышной оперной партии, словно это тончайшее камерное произведение. У рижской молодежи нет и тени «премьерства». Театр добивается успеха продуманным подбором ролей, отчасти вызванным необходимостью: небольшой состав труппы, сложный, обширный и все время пополняющийся репертуар (каждый сезон не меньше трех оперных премьер). И сегодняшний Зигмунд или Радамес завтра поет Задрипанного мужичка в «Катерине Измайловой», а Кармен или Амнерис — одну из восьми валькирий.
Не надо думать, что в театр приходят уже сложившиеся певцы, — Латвийская консерватория дает им ровно столько же, сколько любая другая консерватория страны. Но главный дирижер Э. Тонс и главный режиссер К. Лиепа много работают с молодежью. Они постоянно повторяют молодым исполнителям: не пойте громко, всем известно, что у вас сильный голос, но не в силе счастье — думайте о музыке. С первых же шагов молодого певца дирижер и режиссер тщательно заботятся, чтобы он чувствовал себя на сцене свободно, не был прикован к дирижерской палочке. И вот результат: молодежь, не нарушая ансамбля, участвует в одном спектакле с прославленными певцами — Ж. Гейне-Вагнер, П. Гравелисом, М. Фишером, А. Фринбергом, Р. Фринберг, а, выступая в тех же ролях, иногда даже соперничает с ними в яркости созданных образов.
...Десять лет назад Э. Тонс услышал в самодеятельном хоре лаборанта завода РЭЗ Карлиса Зариня и посоветовал ему учиться. Подобно многим латышам, Заринь с удовольствием пел в хоре, но больше увлекался техникой и не думал о профессиональной музыкальной карьере. Однако занятия в консерватории скоро подтвердили правильность совета Тонса. Еще студентом последнего курса Заринь в числе других учащихся демонстрировал в Ленинградской консерватории достижения рижан и в этой аудитории, пожалуй, самой требовательной и критически настроенной, поразил красотой голоса и свободной манерой пения. Потом он целый год совершенствовался в Болгарии под руководством известного педагога И. Иосифова.
За пять лет работы в театре Заринь выдвинулся в ряды ведущих артистов. Он спел такие разные и сложные партии, как Самозванец и Радамес, Хозе и Тангейзер, Зигмунд в «Валькирии» и Рудольф в «Богеме», Принц в «Любви
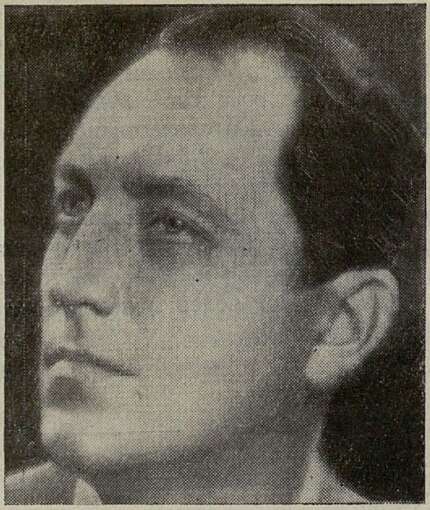
к трем апельсинам» и Питер Граймс; он подготовил Ирода в «Саломее» и Германа в «Пиковой даме». Не менее разнообразны его концертные программы (которые он исполняет на шести языках), включающие «Страсти по Матфею» Баха, «Мессию» Генделя, «Времена года» Гайдна, Девятую симфонию Бетховена, «Реквием» Верди, «Песнь о земле» Малера, «Из еврейской народной поэзии» Шостаковича, романсы Чайковского, Рахманинова, латышских классиков, Брамса, Гуго Вольфа, «Поэму» Турины, «Сонеты Микеланджело» Бриттена и многое другое. Уже один этот перечень свидетельствует о широких возможностях певца, о его умении исполнять произведения различных стилей и, что особенно ценно, современных композиторов.
Привлекает не только красивый и сильный драматический тенор Зариня, но и чистота интонации, музыкальность, большая культура, серьезность и страстная, самозабвенная увлеченность пением. Когда он поет, то не знаешь, существуют ли для него вокальные трудности или такому голосу все дается легко, само собой. Во всяком случае слушатель не догадывается, что Вагнера петь трудно или что в современных операх вокальные партии не всегда удобны по тесситуре и недостаточно певучи, — все звучит широко, свободно, красиво. У Зариня отчетливо проявляется характерная черта рижских певцов — ровность диапазона, свобода верхнего регистра: он не думает о предстоящем си бемоле или си, не готовится к ним за фразу или за такт. Превосходно его умение исполнять речитативы — кстати, тоже не индивидуальная черта Зариня, а особенность всех его товарищей по театру: он избегает и выпевания речитативов (когда этого не требует музыка), и быстрого, небрежного «проговаривания» в ожидании выигрышной арии, где можно показать голос.
Зариня интересно слушать и в таких традиционных партиях, как Хозе или Радамес. и я таких редко исполняемых, как Зигмунд или Питер Граймс. В роли Хозе привлекает непосредственность, простота исполнения. Песенку за сценой во втором акте, обычно доставляющую столько хлопот — она идет без сопровождения а заканчивается в высоком регистре, — Заринь словно напевает. Он одинаково внимателен ко всем эпизодам партии, а не только к выигрышным, «ударным». Сильное впечатление, напри мер, производят краткие декламационные фразы в третьем акте, полные гнева и отчаяния, — исполненные без малейшего нажима. Выразительность в арии из второго акта или в заключительном дуэте настолько велика, что заставляет забыть об «игре».
А игра артиста, к сожалению, уязвима. В ней есть интересные, живые штрихи: Заринь не боится подчеркнуто бытовых моментов в двух первых актах, резкости, даже грубости в проявлении чувств: его общение с партнерами естественно и непринужденно. Однако в целом в этой роли ему недостает артистизма. Не испытывая боязни сцены, Заринь в то же время держится мешковато, подчас пассивно.
Еще отчетливее это сказывается в роли Радамеса. Итальянский язык, на котором певец исполняет партию, не смущает его, а вот пластика, сценическое действие стесняют. Поэтому лучше всего ему удаются эпизоды (сцена с Амнерис в четвертом акте, заключительный дуэт), которые требуют только одного — выразительного пения.
Любопытно, что гораздо свободнее чувствует себя певец в ролях, предъявляющих значительно более сложные требования. Такова роль Зигмунда в «Валькирии» в постановке К. Лиепы. Режиссер предоставляет актерам полную свободу: мизансцены просты, костюмы удобны, декорации почти отсутствуют, вся сценическая иллюзия создается светом. Исполнитель здесь все время подается крупным планом. В «Валькирии» один первый акт идет почти час, и Зигмунд ни на минуту не покидает сцены. А Заринь поет, и поет просто, свободно, словно это самая традиционная опера... Правда, на первых спектаклях лишь в пении он выражал все переживания героя, но стоило ему умолкнуть, как он переставал чувствовать, думать, действовать. Теперь, два года спустя после премьеры, Заринь значительно вырос как актер: он не «выходит из образа» даже в многочисленных немых сценах,
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 8
- Песня о дружбе 9
- О путях развития языка современной музыки 12
- Вместе с народом 27
- Вечно живая традиция 31
- Просторный мир музыканта 35
- Воспитанные современностью 44
- Повесть о нашей жизни 49
- Эдгар Тонс 51
- Молодые певцы 55
- По мотивам Райниса 60
- «Питер Граймс» 64
- Три вариации на одну тему 69
- Говорит Виктор Самс 72
- Филармония и слушатели 75
- С экрана телевизора 76
- Новые имена 77
- Обобщать практический опыт 80
- Ставит Голейзовский 85
- «Прекрасное должно быть величаво» 90
- «Великолепная четверка» 94
- К 70-летию М. О. Рейзена 97
- Страницы воспоминаний 104
- В концертных залах 110
- Голос слушателя 116
- Смотр композиторских сил 122
- Из наблюдений над стилем 125
- Певец венгерского пролетариата 134
- Город живых традиций 137
- Наш журнал 143
- Каким будет фестиваль в Зальцбурге? 145
- Карлу Орфу — 70! 146
- Книга о Свиридове 147
- Народные корни 149
- Письма композитора 150
- Меньше слов, больше фактов 152
- Коротко о книгах 153
- Нотография 155
- Новые грамзаписи 158
- Вышли из печати 158
- Хроника 159



