Вот Алдонис Калнынь, о котором журнал «Советская музыка» однажды уже писал1. По своей индивидуальности он прежде всего лирик-миниатюрист. При этом сильнейшая повествовательная струя в его музыке обусловлена удивительно проникновенным, «мелодичным» прочтением поэтического текста, а элементы живописной звукописи — в числе других средств — тонким колорированием гармонических комплексов. В целом же некоторая «приглушенность» высказывания (автор избегает открытой экспрессивной эмоциональности) весьма созвучна лирическому «руслу» латышской народной песенности и, с другой стороны, — хрупкому лиризму Альфреда Калныня, Яниса Залита.
Может быть, это традиционализм? И да, и нет. В конце концов нельзя отрицать, что в красочных хоровых картинах композитора отражается словно бы «цветовая гамма» действительности. Достаточно сказать, что интонации народных песен Латвии прежде почти не облекались в столь красочный, временами импрессионистский наряд, какой обрели они в музыке молодого автора.
А вот композиторская индивидуальность Ромуальда Гринблата во многом противоположна только что описанной. В Первой и Второй симфониях (1955, 1956 годы), в вокальном цикле «Поэты Земли в борьбе за мир» и в особенности в балете «Ригонда» (1959) — первом латышском балете, посвященном теме борьбы против колониализма (по мотивам романа В. Лациса «Потерянная родина»), — явственно ощущается стремление создать напряженную музыкальную драматургию с умело использованной системой лейтмотивов, с выразительной трактовкой контрастных тембров, со специфическим заострением звуковых комплексов в целях обличения «злого начала».
Показателен для композитора Концерт для фортепиано с оркестром (1963). Через все четыре его части — Allegro, Adagio, Allegro molto. Andante — проходит образ, особенно концентрированно воплощенный во вступлении к первой части и в ее главной партии. Образ этот художественно противоречив. С одной стороны, ему присущи активность, «самоубежденность», оптимизм, выраженные в динамичной ритмике, размашистых, смелых интонационных шагах. С другой стороны — тревожное беспокойство, нередко переходящее в нервное напряжение, в необузданную психологическую рефлексию. Эта противоречивость центрального образа оказала известное воздействие и на всю концепцию сочинения, придавая ему экспрессионистский отблеск.
Справедливо критикуя молодого композитора за односторонность субъективистского восприятия действительности, следует, поддержать и то ценное, что содержится в его творчестве. Так, например, в Третьей симфонии привлекает удивительно емкий, полнозвучный образ природы. Он появляется в начале первой части и, видоизмененный, повторяется во всех узловых моментах драматургии симфонии.
Наконец, — о третьей группе молодых латышских композиторов, чьи творческие дороги кажутся мне особенно целеустремленными, а освоение ими современной темы — примечательно принципиальными находками. И потому хочется от «сквозного рассказа» перейти к отдельным небольшим характеристикам.
Средствами жанрового симфонизма...
Гедерта Рамана2 знают в основном как автора эстрадной музыки. В его песнях и инструментальных миниатюрах ощущается колорит родно-
Пример
_________
1 См.: С. Стумбре. Поэтичный талант, № 9, 1962.
2 Родился в 1927 году. Образование получил в Риге — в музыкальном училище и в Латвийской государственной консерватории, где обучался в классе профессора А. Скултэ. Закончив консерваторию в 1955 году, Раман работает преподавателем в самодеятельности, звукорежиссером на телевидении.
го города, вырисовываются бытовые сценки из жизни рижан. Поэтому его легкая музыка остро характерна, ярко жанрова, иногда сюжетна.
Другая область творчества Рамана — симфоническая музыка — менее известна слушателям. Но те, кто следил за его развитием, помнят: дипломной работой композитора была симфония лирико-романтического склада. Затем он создал симфоническую поэму «Памятник», посвященную жертвам революции 1905 года. Она как бы обобщает опыт автора, накопленный в работах для театра и кино, где он не раз брался за решение революционных тем. Так постепенно складывалась тенденция, характерная для творчества композитора в целом: стремление сочетать яркую жанровость с подлинно симфоническим дыханием. Попытки подобного синтеза проявились уже в Сюите для квинтета духовых инструментов (1959), в Концерте для саксофона с камерным оркестром (1962) и, наиболее отчетливо, в Дивертисменте для флейты, трубы, фортепиано и ударных со струнным оркестром (1964).
Все три части дивертисмента — Марш, Пастораль, Танец — напоены бодрым, светлым, радостным настроением. Герой сочинения — деятельный современный человек-труженик. Энергичную, остро синкопированную первую часть сменяет лирически-просветленная вторая. Она далека от психологической углубленности, серьезных раздумий: автор смотрит здесь на мир с бесхитростной, солнечной улыбкой. А в финале то слышится танец, то привлекает внимание забавная жанровая сценка. Его веселое течение, непринужденная мысль-игра легко увлекают за собой слушателя. Такого эффекта композитор достигает излюбленным методом тематического развития, часто подчиненного в его музыке характеру свободного музицирования. В результате — завидная естественность выражения.
Недавно Раман закончил трехчастную Вторую симфонию.
И хотя названия ее частей («Мысль», «Труд», «Фанфары») подчеркнуто обобщенны, композитор в ней продолжает поиски в сфере жанрового симфонизма. Его творчество особенно примечательно для латышской музыки потому, что он настойчиво разрабатывает тот вид симфонической драматургии, который до сих пор почти не разработан нашими авторами. А между тем жанровый симфонизм наряду с философско-драматическим и лирико-эпическим имеет полное право на существование.
*
Источник музыки — жизнь
Вальтер Каминский1 живет не в столице республики, а в небольшом городе Цесисе. Казалось бы, запас его музыкальных и вообще творческих впечатлений этим неизбежно ограничивается. На деле — не так. Цесис славен своими коллективами художественной самодеятельности, и молодой композитор поддерживает с ними постоянные контакты. Он часто пишет для конкретного «адресата», скажем, «озвучивает» новые свадебные обряды, праздники молодежи и т. д. Много ездил Каминский и по стране, побывал на далеких комсомольских стройках, о чем потом рассказал слушателям в своих сочинениях. (Симфоническая поэма «Рассказ о современном человеке» (1960), оратория «О тех, кто в пути» (1964).
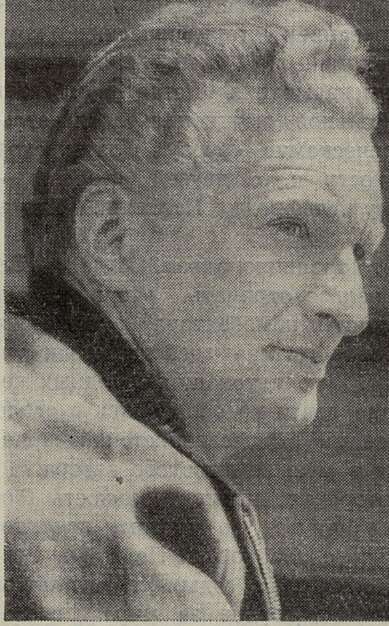
В каком бы жанре ни работал Каминский, содержание его произведений всегда почерпнуто из нашей действительности, что обусловливает и интересные поиски в области стилистики. Так, в хоровых обработках народных песен композитор освобождает фольклорные образы от слегка архаичного идиллического налета и наделяет их
_________
1 Родился в 1929 году. В 1953 кончил композиторское отделение Латвийской государственной консерватории по классу профессора А. Скултэ. Работал консультантом при Союзе композиторов, а также преподавал в музучилище и консерватории.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 8
- Песня о дружбе 9
- О путях развития языка современной музыки 12
- Вместе с народом 27
- Вечно живая традиция 31
- Просторный мир музыканта 35
- Воспитанные современностью 44
- Повесть о нашей жизни 49
- Эдгар Тонс 51
- Молодые певцы 55
- По мотивам Райниса 60
- «Питер Граймс» 64
- Три вариации на одну тему 69
- Говорит Виктор Самс 72
- Филармония и слушатели 75
- С экрана телевизора 76
- Новые имена 77
- Обобщать практический опыт 80
- Ставит Голейзовский 85
- «Прекрасное должно быть величаво» 90
- «Великолепная четверка» 94
- К 70-летию М. О. Рейзена 97
- Страницы воспоминаний 104
- В концертных залах 110
- Голос слушателя 116
- Смотр композиторских сил 122
- Из наблюдений над стилем 125
- Певец венгерского пролетариата 134
- Город живых традиций 137
- Наш журнал 143
- Каким будет фестиваль в Зальцбурге? 145
- Карлу Орфу — 70! 146
- Книга о Свиридове 147
- Народные корни 149
- Письма композитора 150
- Меньше слов, больше фактов 152
- Коротко о книгах 153
- Нотография 155
- Новые грамзаписи 158
- Вышли из печати 158
- Хроника 159



