деляющую музыку Малера от стихов Рюккерта. Нам представляется, что одна из возможных и, может быть, наиболее оправданных ныне трактовок малеровского цикла должна соблюдать эту дистанцию, вести от горестного лиризма Рюккерта в сторону философско-трагических образов Томаса Манна. А это в свою очередь требует рельефно выявленного трагизма в самом исполнении, трагизма углубленного, но не лишенного драматического порыва...
Лайма Андерсон и Эдгар Тонс дали другое решение. Мы услышали скорбную повествовательность, отмеченную благородной сдержанностью, лишь однажды, в последней части цикла, оттененную энергическим драматизмом. Велик соблазн трактовать музыку Малера в духе экспрессионизма, гиперболизируя отдельные интонации, подчеркивая контрасты между шепотом и криком отчаяния. Надо отдать справедливость Лайме Андерсон и Эдгару Тонсу — они полностью избежали этого. Но вместе с тем непосредственное раскрытие чувств было заменено воспоминанием-размышлением. Возможность такого толкования мы уже признали; его убедительность подтверждается большим успехом у публики. Нужно полагать, что Андерсон и Тонс будут частыми гостями у москвичей — к удовольствию последних.
Об исполнительской индивидуальности Андерсон мне судить труднее, чем о стилевых особенностях дирижерского искусства Тонса; я слушал его в Риге незадолго до этого концерта. В исполнении малеровского цикла проявился свойственный Тонсу лиризм, четко сдерживаемый волевым началом, интеллектуальной ясностью.
По-видимому, эти качества (их проявления очевидны и во внешней манере дирижирования, в характере жестов) во многом определили трактовку «Песен»; они сказались также и в интерпретации Второй симфонии Скрябина, где убедительнее всего прозвучала центральная медленная часть, выдержанная в лирических, отчасти пасторальных тонах, и экспозиция первой, содержащая интеллектуально-волевые и лирические образы.
Концерт был завершен впервые исполненной в Москве оркестровой «Балладой о гномах» Отторино Респиги, широко известного у нас благодаря «Фонтанам Рима» (1917) и «Пиниям Рима» (1924). По времени написания «Баллада о гномах» (1920) находится на полпути между двумя этими сочинениями. Они основаны на сюжетах сказочно-романтического характера, которые так хорошо удавались Респиги. Но в заключительном разделе «Баллады» за декоративностью музыкальных образов проступает нечто более существенное.
Если это еще не те образы зла и социального бедствия, которые появились в творчестве, например, Онеггера или Шостаковича, то это образы, вплотную к ним подводящие. В этом особая интересность «Баллады». «Баллада о гномах» требует высокого мастерства не только от оркестра как монолитного целого, но и от каждого оркестранта. Исполнением «Баллады» и малеровского цикла симфонический оркестр Московской филармонии вновь показал себя с самой лучшей стороны.
И. Рыжкин
*
Зарубежные пианисты
Микеланджели
Его приезду предшествовала громкая молва. За границей его имя, окруженное легендами, причисляется к первым из первых среди современных пианистов.
Оправдали ли московские концерты итальянского артиста его мировую репутацию? И да, и нет. Да — прежде всего в смысле совершенства, с каким выполняется исполнителем задуманное. Даже самому большому виртуозу случается где-то промахнуться, задеть фальшивую ноту, неточно рассчитать темп; что-то в концерте, бывает, не прозвучало или прозвучало не так, как нужно. Какая-то деталь «не вышла». У Бенедетти-Микеланджели это исключено: выходит все — и выходит точно так, как задумано. Сто процентов «попадания» в замысел — редкостное явление на концертной эстраде!
Конечно, для этого надо изумительно владеть инструментом. Действительно, пианистическое мастерство Микеланджели поражает: легкость и отчетливость его пальцевых пассажей, трелей, октав соревнуются с благородством и разнообразием звука, сохраняющимся и в мощных аккордах фортиссимо, и в удивительном по нежности пианиссимо. Можно, думается, назвать немногих пианистов, не уступающих Микеланджели, в единичных случаях даже превосходящих его в том или ином разделе фортепианной техники, в тех или иных качествах звуковой палитры, но такого равномерно развитого аппарата, такого всеобъемлющего владения всеми сторонами пианистического мастерства мы не слыхали, пожалуй, со времен Гофмана.
Совершенное выполнение задуманного... А само задуманное, творческие замыслы исполнителя? Микеланджели и в этом отношении стоит на огромной высоте. Это очень большой музыкант, глубоко проникающий в исполняемую музыку, бережно и выразительно передающий ее букву и дух. Он тонко индивидуализирует самую манеру исполнения применительно к стилю автора: рояль звучит у артиста в сонатах Скарлатти иначе, чем в сонатах Бетховена, в Шопене — иначе, чем в Дебюсси. При всем этом на концертах Микеланджели всегда царит атмосфера художественной строгости и сосредоточенности: в отборе произведений, в характере интерпретации, в поведении на эстраде ни малейшей небрежности, никакого «виртуозничанья», ни тени «эффектов».
При такой ровности исполнения трудно выделить что-либо больше или меньше удавшееся: «Чакона» Баха — Бузони покорила свободной властью над формой, величием и красочностью звучания, сонаты Бетховена (до мажор соч. 2 № 3 и до минор соч. 111 ) — мудростью и пластическим великолепием; интерпретация вторых (медленных)
частей обеих сонат поразила проникновенностью и звуковым обаянием. Надолго запомнится рельефная чеканка Пятого бетховенского концерта. Нежными акварельными красками были переданы две серии «Образов» и «Остров радости» Дебюсси. Наиболее общее, безоговорочное признание вызвали пять сонат Скарлатти, исполненные с благоуханной свежестью и поэтичностью.
С меньшим единодушием были приняты произведения Шопена: если дымчатое звучание «Колыбельной» и горячая, виртуозная интерпретация Второго скерцо, кажется, всех привели в восхищение, то тихое и грустное исполнение некоторых мазурок и Вальса (соч. 69 № 1) показалось части слушателей рецидивом «салонного» толкования Шопена. Такого рода «налет», может быть, и чувствовался кое-где (например, в Мазурке соч. 33 № 4, в средней части си бемоль-минорного скерцо). В основном, однако, в мазурках и вальсе жило, на мой взгляд, совсем другое — то душевное очарование, тот особенный аромат, который по недоразумению часто смешивается с «салонщиной» и заодно с ней выветрился, к сожалению, из игры многих современных пианистов. К сожалению, ибо без него Шопен перестает быть Шопеном.
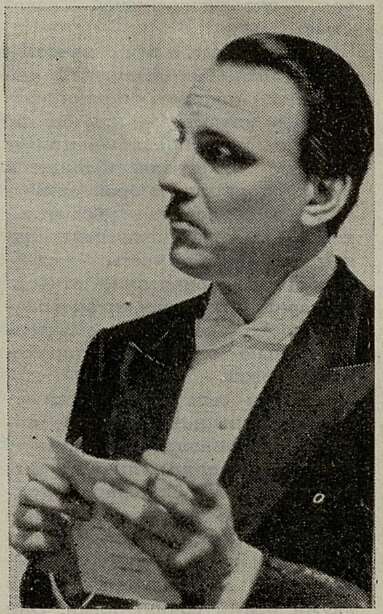
Искусство Микеланджели импонирует, восхищает, очаровывает. Но кое-чем и разочаровывает. Думая о нем, вспоминаешь острое словцо Листа о пианисте Гиллере, которому великий венгерский музыкант ставил в упрек его безупречность. Необыкновенно ровно играет Микеланджели — так ровно, что повторные исполнения одних и тех же произведений звучат как проигрывания одной и той же пластинки: ни одна интонация, ни один нюанс ни на йоту не сдвигаются с места.
Сравнение с пластинкой выбрано не случайно. Творческий метод Микеланджели — плоть от плоти «века грамзаписи»; игра итальянского пианиста идеально приноровлена к ее требованиям. Отсюда стремление к «стопроцентной» точности, отработанности, абсолютной непогрешимости, характеризующие эту игру,— но отсюда же и решительное изгнание малейших элементов риска, порывов в «незнаемое», то, что Г. Нейгауз метко назвал «стандартизованностью» исполнения. В противоположность пианистам-романтикам, под пальцами которых само произведение кажется тут же творимым, рождающимся заново, Микеланджели на эстраде не творит даже исполнения: все здесь сотворено заранее, измерено и взвешено, отлито раз навсегда в несокрушимо великолепную форму. С этой готовой формы исполнитель в концерте сосредоточенно и бережно, складка за складкой, снимает покрывало, и перед нами предстает в своем мраморном совершенстве изумительная статуя.
Но как бы прекрасна ни была каждая из этих «статуй», а все же при созерцании их мне недоставало того, в чем заключается едва ли не главная прелесть исполнительского искусства — дыхания вдохновенной импровизации, неповторимости, «сиюминутности» творческого процесса, трепета рождающейся на глазах жизни. И потому впечатление раздваивалось: слушаешь Микеланджели, отдаешь ему должное, как великому мастеру и художнику, а в то же время нет-нет да и вздохнешь по другому, пусть менее совершенному, но более творимому искусству...
Г. Коган
*
Сессиль Уссе
Лауреат шести международных конкурсов, Сесиль Уссе (Франция), запомнилась как эффектная, элегантная, довольно «живописная», но несколько поверхностная исполнительница. В своем концерте в зале им. Чайковского она представила французскую фортепианную музыку от Куперена до Пуленка. Приятно, с тонкими акварельными Штрихами звучали «Молоточки» Куперена, «Щебетание птиц» Дандрие, «Курица» Рамо. Здесь можно отметить отточенность и клавесинную колоритность мелизматики, бисерных пассажей, мягкость туше. Звукоизобразительность чисто внешнего плана, «воздушный» пианизм были в сюите «Для фортепиано» Дебюсси (Прелюдия, Сарабанда и Токката), в «Ундине» и «Скарбо» Равеля. Красочные «росписи», легкость «скользящих» гармоний в Прелюдии и Токкате, ласкающие глиссандо в «Ундине», мерцающие звучания в «Лунном свете» Дебюсси — таких находок у пианистки немало. Она охотно играла «на бис». Запомнились серебристо-звонкие тембры в листовской «Кампанелле», живой ритм и техническая свобода в «Танце огня» де Фалья. Хорошо, хотя, быть может, слишком завуалированно, был исполнен Ноктюрн ре бемоль мажор Шопена: певучая, дышащая мелодия и плавное колыхание «говорящего» фона-аккомпанемента создавали равновесие всех элементов фактуры (огорчил лишь ненужный «шик» в гаммообразных последованиях).
В ходе концерта вскрылась легковесность некоторых исполнительских решений и построения программы. В таком психологически сложном сочинении,
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Ответственность перед будущим 5
- Оптимистическая педагогика 10
- Упущенные возможности 19
- Школа играющая, школа поющая 21
- Встреча за круглым столом 23
- Москва. Праздник песни 27
- Художник мужественный, светлый… 28
- На пороге музыкального театра 36
- К дискуссии об опере 41
- 50 реплик композитора 46
- Рассказывает Хари Янош 49
- Режиссер? Дирижер? 55
- Эстетика Ф. Э. Баха 61
- Мстислав Ростропович 68
- Уроки мастерства 74
- Обновить курс истории пианизма 77
- Начало пути 80
- Великий гитарист 83
- Моя парабола 88
- Письма из городов. Из Донецка 93
- Письма из городов. Из Орджоникидзе 94
- Письма из городов. Из Горького 94
- Программы вокальных вечеров 95
- Малеровский цикл 96
- Зарубежные пианисты. Микеланджели 97
- Зарубежные пианисты. Сесиль Уссе 98
- Зарубежные пианисты. Юджин Лист 99
- За фильм композитора! 100
- Режиссер и композитор 103
- Религия и музыка современного Запада 109
- Слово румынским музыкантам 119
- Слово румынским музыкантам 120
- Слово румынским музыкантам 120
- Слово румынским музыкантам 120
- Слово румынским музыкантам 121
- Джордже Энеску — певец Румынии 122
- Демократический жанр 128
- Хроника музыкальной жизни Румынии 131
- «Ива» 133
- На гостеприимной земле Румынии 137
- На гостеприимной земле Румынии 141
- Чрезвычайное положение в 1-Б 143
- ...Даешь духовный детский рост! 146
- Говорит Д. Кабалевский 147
- В мире детворы 148
- К 50-летию Октября 149
- «Каджана» 150
- Детям — от Юло Винтера 150
- В Ташкенте 151
- На сюжет Джанни Родари 152
- Когда поют школьники... 156
- [Авторский концерт композитора Нины Макаровой] 157
- Памяти А. И. Шавердяна 158
- Премьеры 158
- Народная певческая... 159
- Письмо в редакцию 159
- Здесь звучит музыка... 160
- Беспризорные рояли 161
- Честные голоса Японии 162
- Имени Андреева 162
- С двадцатилетием! 163
- Старейший, но вечно юный 163
- Памяти ушедших. Ф. Н. Надененко 164
- Памяти ушедших. В. И. Садовников 164



