ставившую жителей Кипра заниматься подобной гимнастикой, не удалось.
Не вытекало из логики музыкальной драматургии и решение картины «Таверна». Казалось бы, вся музыкальная фактура этой сцены — резкие смены мелодий, острые акценты, синкопированный ритм, разгульный характер бриндизи Яго — должны были создавать атмосферу безудержного и пьяного веселья, из которого естественно вытекают ссоры, чьи-то драки и, наконец, поединок Кассио с Монтано. Но... на ярко освещенной сцене мы увидели нарядное полукружие картинно рассаженных дам с лежащими у их колен возлюбленными. Они церемонно чокались бутафорскими бокалами. В надлежащий момент — перед ссорой — дамы, не слишком торопясь, вставали, поднимали с пола подушки, на которых сидели, услужливо освобождая место для поединка.
Сцена эта и отдаленно не напоминала празднества пьянеющего от радости и вина народа, избавленного от угрозы нападения. А безудержное веселье в этой картине тем более необходимо, что подчеркивало бы по контрасту поэтичную сцену Отелло и Дездемоны, именно ту сцену, в которой — единственный раз в опере — Отелло спокоен: он счастлив, любит, верит...
Дуэт героев собственно и определяет драматургию оперы. Здесь ее основная мысль. По характеру музыки это почти ноктюрн. Какое настороженное вступление, каким благоговейным, почти робким чувством проникнуты первые фразы Отелло, как кристально чисто сливается с ним мелодия Дездемоны и, наконец, оба голоса соединяются в упоительной теме любви! Но... вопреки музыке, вопреки своему внутреннему состоянию, Отелло в продолжение всей сцены занимает внимание зрителей главным образом бесчисленной сменой красивых поз у подножия ложа.
И зритель лихорадочно следит: Отелло красиво лег — кажется, ему неудобно; свободно встал; еще более красиво лег; наконец, спев целую фразу спиной в публику, поцеловал запрокинутую Дездемону и застыл с ней в картинном объятии.
Можно, конечно, гозорить о тренированности актера, о хорошем знании им партии, но ничего нельзя сказать о душевном состоянии Отелло, о характере героя.

Дездемона — Н. Ткаченко
Отелло — человек больших чувств, горячей крови, но он темнокожий... и сразу весь набор режиссерских «африканских страстей», штампованный грим — подчеркнуто большой и ярко-красный рот, непременные белила на нижних веках, будто бы увеличивающие глаза. Мавр... и мы увидели головокружительные мизансцены, вплоть до самоотверженного падения артиста с лестницы вниз головой... Не было лишь страданий измученного подозрениями, доверчивого Отелло-человека.
Глубоко неверно убеждение, что большие чувства требуют непременного охвата всего пространства сцены, «укрупненных» жестов. Вряд ли вспомнятся сегодня все детали внешне эффектных мизансцен, но вот взгляд Отелло, внимательный, испытующий, настороженный, — во время рассказа Яго о сне Кассио — остался в памяти. Только во внутреннем общении исполнителей рождается подлинная жизнь героев. Но такого общения в постановке Д. Смолича мало.
Психологически должна бы решаться и сцена Дездемоны с киприотами (Е-dur’ный хор третьего действия).
...С далеких гор, запыленные, в грубых одеждах спустились жители Кипра посмотреть на свою новую госпожу и принести ей скромные дары своей суровой земли. Прозрачные мелодии их песни говорят о чистых душах, полных вос-
хищенного удивления красотой и простотой Дездемоны. Лишь благоговейные взоры киприотов и благодарный за эту любовь взгляд Дездемоны должны заставить замученного подозрениями Отелло вновь поверить в чистоту и любовь: «Нет, быть не может, не верю, я не верю! Нет, не был я обманут».
Но мы опять увидели картинно сидящую Дездемону, на губах которой застыла полуулыбка, а поодаль — аккуратно расставленный рядами хор в чистеньких, «неаполитанских» костюмах. Хор обращался почему-то к залу и лишь на «отыгрышах», в промежутках между пением, вспоминал о Дездемоне. «Киприоты» поворачивались к «госпоже» и осыпали ее розами...
С сожалением надо отметить, что все три участника постановочной группы — режиссер, художник и дирижер (И. Абрамис) — действовали в поразительном единстве. А единство это вызывает недоумение. Если допустить, что режиссер и художник «не услышали» музыку, не прониклись ее суровой и горячей страстностью, то дирижер не мог не почувствовать, не понять Верди. Бесплодны и ненужны споры — за кем из участников постановочной группы должен быть сохранен приоритет. Ответ может быть лишь один — за музыкальной драматургией. Вклад дирижера в правильное сценическое прочтение оперного спектакля огромен, должен быть огромен, потому что в спектаклях Минского театра (мы имеем в виду и «Отелло» и «Орестею»), по всей видимости, властвует режиссер, далеко не всегда правильно ориентирующийся в музыкальном материале. А роль музыканта сведена к обязанностям правильного и четкого выполнения всех указаний постановщика.
Что это? Творческие просчеты дирижеров, или деспотическая властность главного режиссера Д. Смолича? По-видимому, и то и другое. Такого рода предположение находит еще более яркое подтверждение на примере некоторых моментов постановки оперы Танеева «Орестея».
Музыкальная трилогия Танеева — произведение большое и сложное.
Сосредоточенность действия вокруг трех важнейших «узлов» драмы — преступления Клитемнестры, мести Ореста и суда Афины, отсутствие побочных сюжетных линий, бытовых подробностей, монументальность, лапидарность эсхиловского стиля — все это естественно вылилось в форму, далекую от привычной для оперы XIX века. Сценическое решение «Орестеи» представляет собой труднейшую задачу. Создатели спектакля должны были глубоко вчитаться в античный подлинник, оттенить в опере Танеева черты, близкие духу древнегреческой трагедии, раскрыть содержание драмы через музыку, чутко вникая в смысл танеевской партитуры.
В опере, которая десятилетиями не исполнялась на сцене, не могло существовать традиционных, «освещенных временем» купюр. Т. Коломийцевой пришлось фактически создавать собственную музыкальную редакцию, но в этом трудном процессе воля дирижера оказалась подчиненной «творческой фантазии» режиссера.
Весьма возможно, что был спор, но победителем из него вышел Д. Смолич. Доказательств этой «победы» больше чем достаточно.
Очевидно, для «активизации» сценического действия режиссер ввел эпизод «обольщения» Агамемнона Клитемнестрой. Более того, Д. Смолич вынес на авансцену убийства Агамемнона и Клитемнестры, происходящие у Эсхила и Та-
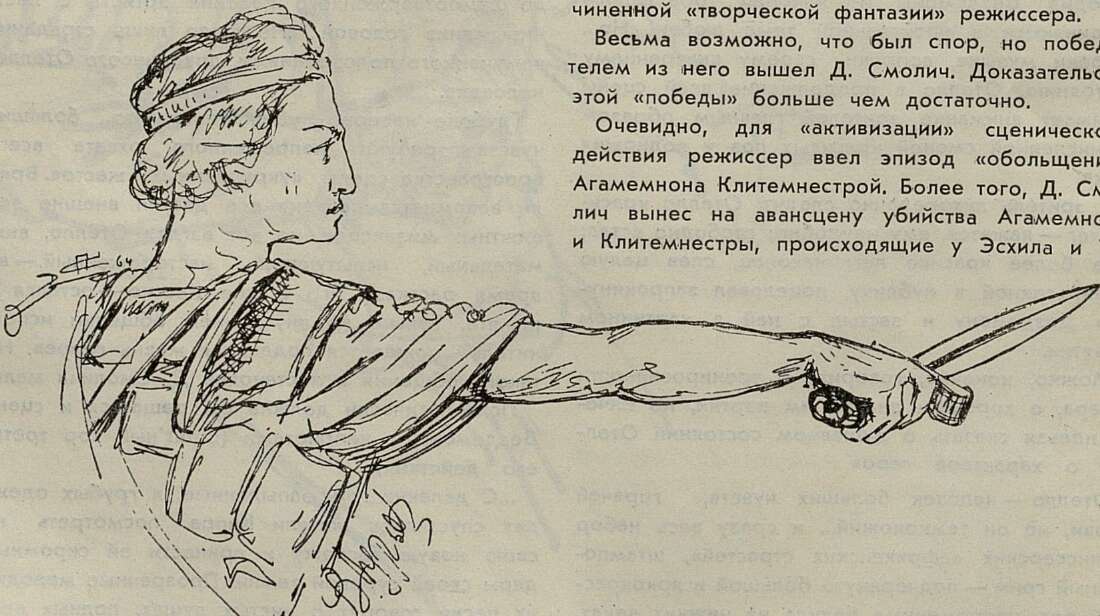
Орест — В. Гурьев
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Ответственность перед будущим 5
- Оптимистическая педагогика 10
- Упущенные возможности 19
- Школа играющая, школа поющая 21
- Встреча за круглым столом 23
- Москва. Праздник песни 27
- Художник мужественный, светлый… 28
- На пороге музыкального театра 36
- К дискуссии об опере 41
- 50 реплик композитора 46
- Рассказывает Хари Янош 49
- Режиссер? Дирижер? 55
- Эстетика Ф. Э. Баха 61
- Мстислав Ростропович 68
- Уроки мастерства 74
- Обновить курс истории пианизма 77
- Начало пути 80
- Великий гитарист 83
- Моя парабола 88
- Письма из городов. Из Донецка 93
- Письма из городов. Из Орджоникидзе 94
- Письма из городов. Из Горького 94
- Программы вокальных вечеров 95
- Малеровский цикл 96
- Зарубежные пианисты. Микеланджели 97
- Зарубежные пианисты. Сесиль Уссе 98
- Зарубежные пианисты. Юджин Лист 99
- За фильм композитора! 100
- Режиссер и композитор 103
- Религия и музыка современного Запада 109
- Слово румынским музыкантам 119
- Слово румынским музыкантам 120
- Слово румынским музыкантам 120
- Слово румынским музыкантам 120
- Слово румынским музыкантам 121
- Джордже Энеску — певец Румынии 122
- Демократический жанр 128
- Хроника музыкальной жизни Румынии 131
- «Ива» 133
- На гостеприимной земле Румынии 137
- На гостеприимной земле Румынии 141
- Чрезвычайное положение в 1-Б 143
- ...Даешь духовный детский рост! 146
- Говорит Д. Кабалевский 147
- В мире детворы 148
- К 50-летию Октября 149
- «Каджана» 150
- Детям — от Юло Винтера 150
- В Ташкенте 151
- На сюжет Джанни Родари 152
- Когда поют школьники... 156
- [Авторский концерт композитора Нины Макаровой] 157
- Памяти А. И. Шавердяна 158
- Премьеры 158
- Народная певческая... 159
- Письмо в редакцию 159
- Здесь звучит музыка... 160
- Беспризорные рояли 161
- Честные голоса Японии 162
- Имени Андреева 162
- С двадцатилетием! 163
- Старейший, но вечно юный 163
- Памяти ушедших. Ф. Н. Надененко 164
- Памяти ушедших. В. И. Садовников 164



