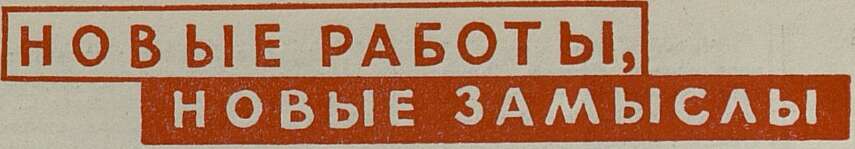
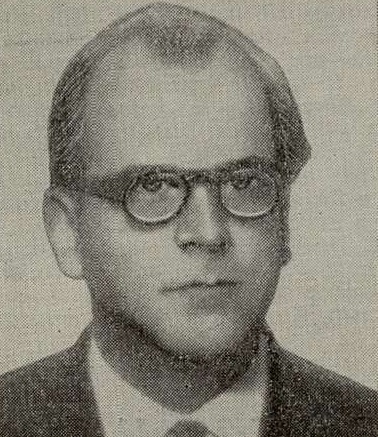
Опера «Аудрини»
Почти 22 года прошло с тех пор, как фашистские оккупанты уничтожили латышское село Аудрини. Более двухсот детей, женщин и стариков были зверски убиты только за то, что помогали партизанам.
Много ценных документов, подробно рассказывающих об этих трагических событиях, разыскал латышский поэт Ф. Рокпелнис в Государственном архиве и Краеведческом музее. Он нашел одну из жительниц села, которой удалось спастись от расстрела. Ее рассказ дополнил сведения, собранные в архивах.
Так рождался замысел новой оперы. Когда мы с поэтом осенью 1962 г. побывали в новых Аудринях, где советские люди бережно хранят память о своих героических земляках, план нашей оперы в основном был уже намечен.
Немного о сюжете: на фоне драматических событий того времени раскрывается личная трагедия учительницы Терезы. Она узнает, что ее возлюбленный Эрвине оказался изменником. Верный друг школьных лет Алексис в дни смертельной опасности для Родины помогает Терезе разобраться в своих заблуждениях, вступить на путь борьбы.
Ф. Рокпелнис не новичок в оперной драматургии. Его пламенные стихи в годы войны вдохновляли композиторов на создание латышских массовых песен. Сценические сюжеты поэта легли в основу опер М. Зариня «К новому берегу» и «Зеленая мельница». И мне, малоопытному композитору, повезло, что моим первым либреттистом стал выдающийся национальный поэт.
Советы Ф. Рокпелниса, постоянное внимание Министерства культуры республики, Союза композиторов и нашего музыкального театра во многом помогают мне в ответственной и интересной работе над оперой. В массовых сценах и хорах ее хотелось бы передать непоколебимую веру парода в победу, в светлое будущее, достигнуть эпического звучания. Сейчас я заканчиваю клавир, а осенью надеюсь передать партитуру дирижеру Э. Тонсу.
Получится ли все так, как задумано, решат слушатели на премьере, в день 25-й годовщины Советской Латвии.
О. Гравитис
сколотить ли нечто вроде труппы. Самодеятельность в концентрационном лагере? Почему бы нет? Во-первых, можно под этим предлогом объединить людей; во-вторых, мы будем давать концерты для тех, которым, как и мне, так не хватало родной музыки».
У В. Волкова хранится письмо его товарища по лагерю П. Соловьева — ныне учителя в поселке Сапожок, Рязанской области. Вспоминая проведенные вместе тяжелые годы, он пишет:
«Осенью 1941 г. ходил по лагерю человек в шинели с балалайкой, и все смеялись над его затеей — организовать самодеятельность... В это время благодаря Вашей хитринке я попал в группу артистов и числился в ней до самого ее распада... В нашей труппе все были почти трупы, но искусство брало свое. Помню программу концерта — в основном песни советских композиторов, которые воодушевляли и поддерживали нас...»
«После Винцендорфа, — продолжает свой рассказ Волков, — лагерь в Бремене. Там мы попросили у коменданта разрешение устроить 1-го мая концерт совместно с французскими военнопленными. Нам повезло: праздник совпал с пасхой, и немцы согласились. Но концерт был только предлогом. Давно уже велись переговоры с французской стороной об организации общей голодовки. Было условлено: если во время концерта французы подхватят нашу «Катюшу», значит, они готовы. Я исполнил на «баночке» «Пиццикато» Делиба. Затем мы запели «Катюшу» и с радостью услыхали, что французы дружно стали подпевать. На другой день началась общелагерная голодовка».
После победы Волков вместе со своими товарищами возвратился в ряды Советской Армии. В первые же мирные дни он участвовал в организации концертов для союзных войск, исполняя на своей «баночке» советские песни. Передо мной любопытный документ — пожелтевшие листки программы первого такого выступления. Программа написана от руки на русском и английском языках буквами русского алфавита.
Прошло 19 лет. Но до сих пор в квартире В. Волкова на Ленинградском шоссе лежит «баночка» — «сестра» той, которая помогла ему когда-то выжить.
Г. Друбачевская
Творческий отчет молдаван
На одном из заседаний секретариата СК СССР с творческим отчетом выступила группа молдавских композиторов и музыковедов. Они показали в живом исполнении и механической записи ряд сочинений, созданных за последнее время.
А затем состоялся дружеский серьезный разговор о прослушанной музыке. В нем приняли участие секретари Союза: Д. Кабалевский, П. Савинцев, Г. Свиридов, Т. Хренников, Р. Щедрин, В. Мурадели, Я. Солодухо и многие другие композиторы и музыковеды. Выступавшие отмечали несомненный творческий рост национальной композиторской организации, пополнившейся за последнее время молодыми силами. Крепнущему отряду молдавских авторов по плечу большие задачи. Однако решать их подчас мешают некоторые серьезные недостатки. Почти все ораторы говорили о том, что в показанных сочинениях слабо раскрывается национальное содержание музыки. Некоторые авторы, особенно молодые, либо стремятся разговаривать на некоем «общем» музыкальном языке, либо подходят к фольклору поверхностно, потребительски. А хотелось бы большего проникновения вглубь этой неисчерпаемой сокровищницы, более интенсивных поисков в области молдавской мелодики, лада, гармонии. Это поможет решить и проблему яркого, оригинального тематизма, которого очень недоставало во многих прослушанных сочинениях. Подобные упреки адресовались, в частности, сонате А. Стырчи, пьесам
Через столетия…
Четверть века назад, 17 мая 1939 года, в Москве впервые прозвучала кантата Сергея Прокофьева «Александр Невский». Дирижировал автор. Написанная на основе музыки к одноименному фильму С. Эйзенштейна кантата стала ярчайшим примером подлинно современного прочтения героической истории нашей страны. Лучшие черты национального характера: мужество, стойкость, величавая сила духа, проявившиеся в ту тяжкую годину, — вдохновили композитора. Прокофьев, как никто другой, глубоко ощутил особое обаяние, нетленную красоту русского эпоса. С помощью современных выразительных средств ему удалось приблизить далекую эпоху к нашей, сделать живой, доступной широкому слушателю. Недаром Эйзенштейн на вопрос, кого бы он пригласил участвовать в фильме, если бы не было Прокофьева, ответил: «Другого я не вижу».
Мне выпало счастье много раз дирижировать гениальным детищем Прокофьева. Впервые это было в Ленинграде в 1939 году, вскоре после московской премьеры. Исполняли кантату великолепный оркестр филармонии (теперь возглавляемый Е. Мравинским) и гигантский хор Академической капеллы им. Глинки под управлением А. Свешникова, солировала Е. Вербицкая. Хорошо помню генеральную репетицию. Ждали приезда автора. Я очень волновался. И потому, что мне довелось перенять дирижерскую эстафету от самого композитора, и по другой причине. Дело в том, что в финале кантаты («Въезд во Псков») хотелось добиться особенно праздничного, ликующего звучания. Однажды за кулисами попался мне на глаза старичок сторож. Степенного вида, с большой бородой. Спрашиваю его, приходилось ли ему видеть, как в старину встречали вернувшихся с войны победителей. Оказывается, он не только бывал свидетелем подобных торжеств, но даже умел звонить в колокола. По его словам, в таких случаях в ход пускалось несколько больших и малых колоколов, штук семь или восемь. И вот у меня мелькнула дерзкая мысль — испробовать деда в качестве исполнителя. Мое предложение его сначала обидело: «Стыдно, батюшка, над стариком издеваться!», а потом, когда я его заверил в серьезности моих намерений, он согласился. Тревожило меня, как воспримет Сергей Сергеевич такое самоуправство: в партитуре-то указан только один колокол... И вот играем последнюю часть. Когда ударили, залились колокола в умелых дедовых руках, эффект получился поразительный. Компо-

Кадр из фильма «Александр Невский»
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Немеркнущий свет музыки 5
- Сильнее смерти 8
- Пути к слушателю 15
- Неисчерпаемая жизненная сила 20
- У композиторов Латвии 22
- Общее дело, кровное дело 25
- Музыкальный театр в строю 29
- В КДС — артисты Литвы 38
- Елене Фабиановне — девяносто 44
- Из моих воспоминаний 48
- Айно Кюльванд 59
- Ревдар Садыков 62
- Вспоминая Дранишникова 65
- Образы артистов 67
- Мысли о дирижировании 69
- В концертных залах 78
- Песни, ставшие народными 86
- «Склонiмо голови…» (хор из IV акта оперы «Тарас Шевченко») 93
- На пути к большому искусству 95
- Современнику посвящается 101
- Говорят члены жюри 106
- Все в наших руках! 108
- Богатство танцевальных красок 111
- Внимание народным инструментам! 115
- Партизанские крылья 117
- Европа против фашизма 125
- Заметки из Копенгагена 133
- У нас в гостях Б. Бриттен 135
- Шекспир и музыка 137
- «Равель в зеркале своих писем» 141
- Осторожно: пошлость! 144
- Нотография и грампластинки 146
- Хроника 151



