ном музее посчастливилось обозреть всю гигантскую экспозицию полотен Айвазовского. Ходил от картины к картине, любовался и... чувствовал, что чего-то не хватает. Не сразу догадался: музыки. Может быть, «Шехеразады» Римского-Корсакова. Даже попросил работников музея — пусть звучит в залах музыка. Думаю, мы сами еще не знаем, какие удивительные способности человека эстетически оценивать мир раскроются, если он будет воспринимать этот мир в «художественном синтезе» искусств.
Насколько велика потребность в таком синтезе, свидетельствует хотя бы следующий факт. Обитатели нашего Академгородка под Новосибирском жадно «ищут» музыкально-литературные сочинения о жизни ученых, о преобразовании Сибири, о познании человеком природы. Ищут, но найти пока не могут. И вот один из них, Ю. С. Постнов, создал композицию о героических подвигах сибиряков, сочетающую декламацию, пение, кино, танцы. Стихи он сочинял сам, музыкальные фрагменты удачно подобрал из популярных произведений. Надо было видеть, с каким удовольствием слушали собравшиеся!
Нет, спор «физиков» и «лириков» — спор надуманный, поверхностный. Конечно (смешно было бы скрывать), и среди физиков есть люди, не любящие музыку, но не потому, что они физики, а, вероятно, просто потому, что не наделены ни слухом, ни способностью воспринимать художественно прекрасное...
В каком бы жанре ни творил художник, как бы оригинальна и необычайна ни была форма его произведения, вопрос вопросов искусства упирается, конечно, в образ современника. Для нас, читателей, зрителей, слушателей, это самое главное. Мы хотим учиться у искусства и подражать его наиболее совершенным образам. Здесь, однако, возникает проблема, которую я в полном смысле слова назвал бы диалектической. Каким он должен быть — современник в художественных произведениях? «Идеальным», безукоризненным, непогрешимым? Но ведь он олицетворение людей, живущих уже сегодня, сейчас, рядом с нами. Тогда, может быть, точно таким же, как живущие сегодня, со всеми своими слабостями и недостатками? Но ведь под чертами современного духовного строя нашего человека мы разумеем обычно проступающие в них приметы лучшего будущего.
Думается, поэтому, что эстетический идеал в социалистическом искусстве не должен быть «заземленным», как случается порой в сочинениях, созданных по канонам пресловутой теории потока. «Герои» этих сочинений, в сущности, вовсе не герои: они ничего не совершают, никуда не стремятся, а авторы всерьез полагают, что описывают «жизнь как она есть». Такая тенденция, как известно, особенно ярко проявила себя в некоторых произведениях нашей кинематографии и театральной драматургии. Но, с другой стороны, эстетический идеал не должен и «парить» над действительностью.
Повседневно общаясь со множеством людей, любящих музыку и театр, я пришел к твердому убеждению, что наибольшее желание подражать вызывает герой, у которого лучшие свойства характера советского человека рельефно подчеркнуты, как бы продолжены вперед. Это открывает перед подавляющим большинством наших людей реальную возможность самосовершенствования. Одним словом, зритель должен последовательно идти за искусством, учиться у него.
Осмеяние негативных качеств личности сатирой, шаржем несомненно также воздействует. Но опыт показывает, что плодотворнее ориентироваться на положительное в человеке и бережно развивать его. Ведь не секрет, что многие склонны прощать себе дурные поступки или даже «не замечать» их. Отметить же в себе что-то положительное каждый любит.
И еще одна мысль. Что с нашей точки зрения составляет сущность советского человека? Это умение последовательно и непрерывно превращать идеи в убеждения, а убеждения, веру— в стимул труда и жизни вообще. Нам надо как можно больше совершенных произведений об убежденных людях. Ведь идеи наши так прекрасны! Нужно только сделать шаг к тому, чтобы они стали активным двигателем в личной деятельности каждого. Об этом хорошо говорилось на июньском Пленуме ЦК КПСС.
Пословица гласит, что лучше быть пылинкой под ногами соотечественника, чем алмазом в короне угнетателя. Но еще лучше быть алмазом в сердце соотечественника.
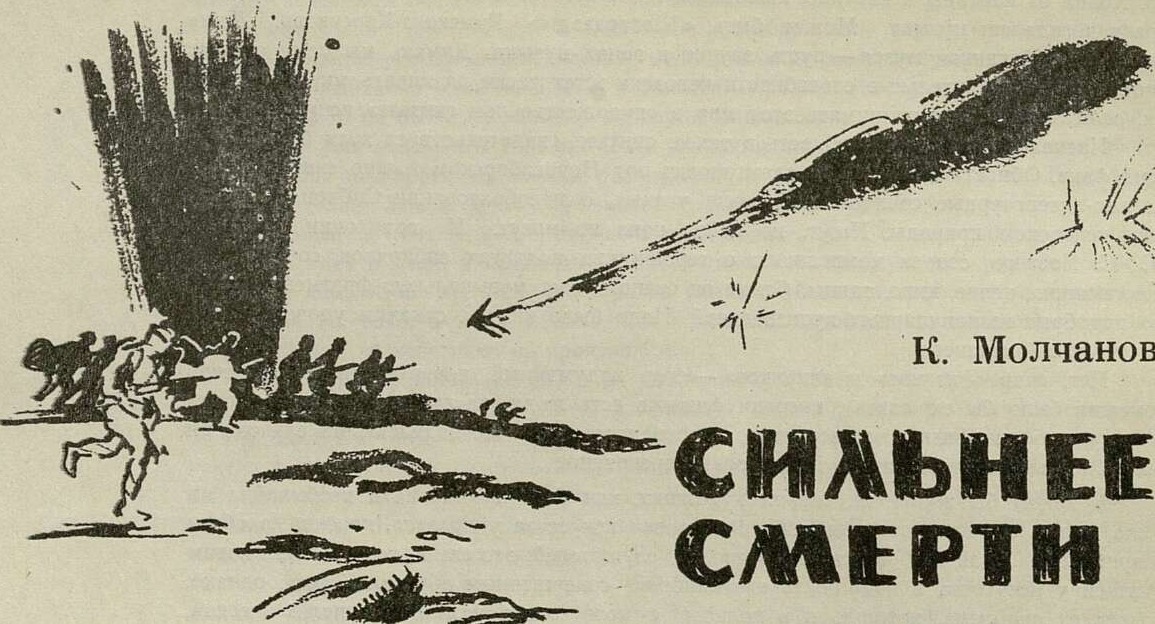
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Сцена девятая
Полуразрушенный каземат. Около радиста стоят Горелов и Артемьев.
Радист. Я крепость... Я крепость... Прием...
Снял наушники...
Радист. Нет связи...
Горелов. Ищи, ищи, Костя... Ты что?..
Голова радиста бессильно упала на стол.
Горелов. Заснул... Умаялся парень... Который день, комиссар?
Артемьев. Десятый...
Горелов. Значит, отрезаны... Совсем отрезаны, и помощи нам, комиссар, ждать с тобой неоткуда... Что будем делать?!
Артемьев. Я о женщинах думаю, Иван...
Горелов. Женщин надо вывести из крепости...
Артемьев. А ты подумал, что их там ждет?
Горелов. Знаю, все знаю... Здесь оставаться — смерть неминуемая... Если к своим пробиваться будем, с ними не пройти... Значит, выход один... Да не смотри ты на меня так, не надрывай мою душу!.. Думаешь, мне не тяжко?.. Я вчера заглянул к ним в подвал, посмотрел на них, на детей... Понимаешь, сидят молча, не жалуются, только смотрят на меня, а в глазах вопрос: «Ну, как там, командир?.. Отобьемся? Есть надежда?.. И дети... дети и те молчат, не плачут... А ведь страшно им, ой, как страшно!.. Такая тоска меня взяла — хоть зубами камни грызи!.. Надо выводить... Может, хоть детей пожалеют...
Сцена десятая
Подвал одного из казематов. Вокруг комиссара Артемьева столпились женщины. У многих на руках дети. Дети постарше тоже столпились кругом. Женщины взволнованы, возбуждены.
Артемьев поднял руку. Шум постепенно стих.
Артемьев. Вы все здесь жены командиров... Вы знаете, что такое приказ командования... Его надо выполнять и обсуждать его не положено... Дорогие вы наши женщины, друзья мои... Не могу я сейчас говорить с вами, как старший. Говорю как друг, как товарищ... В трудный путь вы идете... Храните в сердце своем память о нас, о земле нашей русской... И не теряйте веру, веру в победу... Придет она... Врать не буду: может, и не скоро... а все же придет... Не все доживем до светлого часа... А кто доживет — пусть вспомнит о нас, добрым словом помянет и другим расскажет...
Из толпы вышла пожилая женщина с ребенком на руках.
Женщина с ребенком. Погоди, комиссар... Ты брось нас уговаривать.
Мы солдатки, и доля наша бабья — тоже солдатская... Приказ мы знаем ...не объясняй... Ты вот скажи напоследок, объясни нам... Видишь внука моего?.. Отца у него вчера убили. Мать, дочку-то мою, Зинаиду, помнишь? Ее в первую
_________
Фрагменты из либретто оперы.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Немеркнущий свет музыки 5
- Сильнее смерти 8
- Пути к слушателю 15
- Неисчерпаемая жизненная сила 20
- У композиторов Латвии 22
- Общее дело, кровное дело 25
- Музыкальный театр в строю 29
- В КДС — артисты Литвы 38
- Елене Фабиановне — девяносто 44
- Из моих воспоминаний 48
- Айно Кюльванд 59
- Ревдар Садыков 62
- Вспоминая Дранишникова 65
- Образы артистов 67
- Мысли о дирижировании 69
- В концертных залах 78
- Песни, ставшие народными 86
- «Склонiмо голови…» (хор из IV акта оперы «Тарас Шевченко») 93
- На пути к большому искусству 95
- Современнику посвящается 101
- Говорят члены жюри 106
- Все в наших руках! 108
- Богатство танцевальных красок 111
- Внимание народным инструментам! 115
- Партизанские крылья 117
- Европа против фашизма 125
- Заметки из Копенгагена 133
- У нас в гостях Б. Бриттен 135
- Шекспир и музыка 137
- «Равель в зеркале своих писем» 141
- Осторожно: пошлость! 144
- Нотография и грампластинки 146
- Хроника 151



