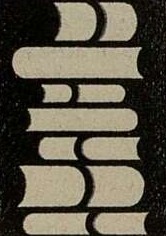Вполне последовательным и естественным был бы отказ оркестрантов подвергаться далее грубым злоупотреблениям антимузыкальных варваров, в результате которых они только напрасно тратят нервы и теряют технику, приобретенную долгими годами труда. Нельзя без волнения и тревоги читать письма, поступающие из наиболее эксплуатируемых оркестров Кёльна, Баден-Бадена, Гамбурга и Франкфурта, авторы которых жалуются на тяжелые нервные расстройства, вызываемые репетициями и исполнением «сочинений» Штокгаузена, Булеза, Берио и им подобных. «Наш оркестр деквалифицировался, — пишет мне один скрипач. — Мы уже не можем играть Моцарта и Бетховена». Подобных писем множество, и в связи с этим некоторые газеты начинают бить тревогу: «По прихоти молодых, неопытных композиторов оркестранты вынуждены исполнять музыку, нарушающую все законы искусства. В результате может погибнуть четырехвековая немецкая традиция оркестровой игры, которая, встати, так интересует зарубежных слушателей» («Frankfurter Neue Presse» от 22 июня 1962 года). Другая статья из той же газеты вносит существенное уточнение, касающееся «молодых, неопытных композиторов»: «О, если бы дело было только в этом! Они все же оставались бы в этом случае композиторами. Как правило же, они действительно молоды, неопытны, но... они — не композиторы».
Возникает естественный протест против этих, часто поддерживаемых официальной культурной политикой, бесчинств — иначе их трудно назвать. Из множества появляющихся в западногерманской печати отчетов о подобных выступлениях протеста, сдержанное достоинство которых не может не трогать, приведу лишь два. Оба имели место на Кёльнском радио. Первый случай произошел во время концерта, организованного «Интернациональным обществом новой музыки». После исполнения оркестровой пьесы а lа Лигети, которое правильнее было бы назвать экзекуцией, дирижер хотел заставить оркестр принять участие в овациях, но, несмотря на троекратное предложение встать, музыканты демонстративно не поднялись со своих мест. Второй протест выразился в том, что после исполнения очередного «серийно-алеаторического» опуса весь оркестр поднялся и молча покинул эстраду, предоставив смущенному дирижеру самому принимать неуемные восторги клаки.
Более объемистое собрание позорных фактов, из которых составляется в продолжение пятнадцати лет наша культурная жизнь, могло бы в равной мере явиться темой специального исследования или послужить материалом для обвинительного акта. Сумеет ли западная музыкальная культура выпутаться из сложного клубка антисоциальных, антигуманных, антихудожественных идей, направлений, течений самостоятельно, по собственной инициативе — вопрос, который пока остается без ответа. Я упоминал о достойных уважения попытках отдельных энтузиастов и организаций вытащить увязший в болоте коррупции «воз» западной культуры. Но нельзя не видеть, что эти попытки слишком нерешительны, непоследовательны, а зачастую ошибочны. В качестве примера можно сослаться на основанный в 1959 году «Художественный совет по опеке и поддержке немецкой оркестровой культуры». В его состав наряду с квалифицированными специалистами входят люди, не имеющие к искусству никакого отношения или разве что лишь негативное, — Штуккеншмидт, Мюллер-Марейн, Руппель; каждый из них на свой лад нанес современной музыкальной культуре больший или меньший ущерб. Иными словами, в организации, призванной возродить немецкую музыку, на почетных местах сидят те, кто привел ее к упадку. Горький парадокс! Или другой пример. В 1960 году Бонн направляет в СССР (по линии германо-советского культурного обмена) трех музыкантов с целью изучения советского опыта в области музыкального просвещения. Вместе с Вильгельмом Малером и Вильгельмом Твиттенгоффом отправляется не кто иной, как Вольфганг Фортнер, воинствующий фанатик-«авангардист», использовавший официальный отчет комиссии о поездке для очередной пропаганды двенадцатитоновой теории на том основании, что она... не пользуется успехом у советских музыкантов! И таких примеров немало.
Все это говорит о необходимости срочных и более эффективных мер по оздоровлению нашей музыкальной атмосферы. «Авангардизм» в данной стадии стал неким жизнеопасным нарывом на теле искусства, разорвав его естественную связь с обществом. Нужно удалить эту злокачественную опухоль, если только пациент не скончается раньше от старческой немощи.
Перевела с немецкого Н. Кравец
БИБЛИОГРАФИЯ
В. Галацкая
Тема обязывает
Появление сборника «Черты стиля Шостаковича» — факт сам по себе отрадный. Несомненно, эта тема трудоемкая, сложная, много здесь еще нерешенного, спорного, остро дискуссионного, и можно только приветствовать намерение редакции объединить разбросанный по разным журналам и изданиям наиболее существенный материал и таким образом создать более цельное представление о стиле композитора. Подобно введению, книгу открывает статья Л. Мазеля, завершает — статья Л. Бергер. Оба автора рассматривают проблемы эстетики и стиля музыки Шостаковича.
В статье Мазеля удачно сочетается высокий профессионализм, отвечающий самым придирчивым академическим требованиям, с ясностью изложения, которая делает такой тип научных работ доступным широкому кругу читателей. Мазель пишет просто и строго, хорошим языком. Видно не только большое знание материала, но ощущается истинная любовь к самой музыке Шостаковича. Это придает отточенным формулировкам эмоциональность, которая не всегда присутствует в других трудах того же автора. Однако желание вместить в рамки небольшой статьи целостную характеристику стиля, необходимость осветить при этом многосторонность творческих связей искусства Шостаковича заставили Мазеля слишком сурово уплотнить ткань своего повествования, что привело к известной тезисности. Думается, что статья Мазеля была бы более уместна в качестве предисловия к фундаментальной книге о Шостаковиче, где можно было бы развить и конкретно доказать каждое положение, каждый тезис.
Обратимся к «заключительной главе» — «О выразительности музыки Шостаковича» Бергер. Широковещательность этого названия настораживает. Так сформулированная тема обязывает автора к всестороннему и углубленному анализу многих весьма сложных явлений, а также и к
_________
Черты стиля Д. Шостаковича. М., «Советский композитор», 1962, 384 стр., тираж 6475 экз.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- За высокую партийность искусства 5
- Уважать культуру своего народа 10
- Праздники и будни 12
- Предлагают участники пленума 13
- Быть достойными учителями 17
- К 75-летию Л. Н. Ревуцкого. Юбиляра поздравляют 22
- Умное мастерство 34
- Две обработки 36
- Патриотическая эпопея 38
- Таллинские впечатления 42
- Необходима реформа 47
- Преодолеть застой 49
- Воспитывать всесторонне 52
- Из писем Н. А. Римского-Корсакова к сыну 54
- Есть ли границы у жанра? 65
- Младшая сестра? — Нет, старшая! 69
- Размышления после премьеры 71
- Вдохновение и мастерство 79
- Спасибо Вам! 81
- Владимир Валайтис 83
- На международных конкурсах: Имени Шумана 87
- На международных конкурсах: Имени Лонг и Тибо 89
- Рядом с Держинской 93
- Играет Артур Шнабель 96
- В концертных залах 101
- От слов — к делу 110
- Музыкальному вещанию — высокую культуру 113
- Второе призвание маршала 118
- Энрике Гранадос 122
- Курт Зандерлинг в Берлине 127
- Заметки о «Варшавской осени» 130
- Трагедия западногерманской культуры 132
- Тема обязывает 136
- Коротко о книгах 141
- Наши юбиляры: И. Ф. Бэлза, Х. В. Валиуллин, А. И. Островский 148
- Хроника 151