
Сцена из второй картины
здесь более строгим, сдержанным по сравнению с операми предыдущего периода: развернутых колоратур нет даже в партии шаловливого пажа Оскара, традиционные каденции в ариях сокращены, а в дуэтах сняты совсем, строже стали речитативы — Верди избегает в них трафаретных аподжиатур. Та же сдержанность, стремление к простоте проявляются в выборе сольных форм: преобладают не развернутые блестящие арии, а напевные романсы и песни, иногда близкие к народному творчеству. Таковы баллада и романс Ричарда, ария Амелии в третьей картине и др.; даже выходная ария главного героя напоминает романс или каватину.
Но, пожалуй, наиболее удачны в «Бале-маскараде» ансамбли. Каждый герой получает в ансамбле индивидуализированную, рельефную характеристику. Особенно надо отметить финальные ансамбли второй, третьей и четвертой картин. Кульминация оперы — сцена заговора и метания жребия — также решена в виде развернутого ансамбля: терцет — квартет — квинтет. Это — действенный ансамбль, насыщенный непрерывным развитием; драматизм усиливается введением самостоятельного оркестрового эпизода.
Постановка в театре имени Кирова подтвердила жизнеспособность оперы «Бал-маскарад»: ею отмечен своеобразный юбилей — 75 лет со дня первого представления оперы в России. Постановщики не пошли по пути модернизации текста, что обычно делалось в последнее время при «воскрешении» малоизвестных произведений Верди. Они не ставили себе целью углублять идейный замысел оперы или превращать ее в социальную драму. Вместо этого театр проделал внешне незаметную, но чрезвычайно важную, тщательную работу по улучшению существующего русского перевода либретто. В целом новый перевод надо признать удачным, этот текст удобно петь, в нем есть легко запоминающиеся, «ударные» фразы.
В новой постановке «Бала-маскарада» исправлена лишь цензурная нелепость: действие возвращено из Северной Америки в Европу, исчезли негры и мулаты. Место действия обозначено в программе как Италия XVII века, заговорщики, именовавшиеся прежде Самуилом и Томом, теперь названы графом Висконти и виконтом Боремаро. Причем характерно, что ни упоминания Италии, ни новых имен в тексте нет — они не произносятся на сцене.
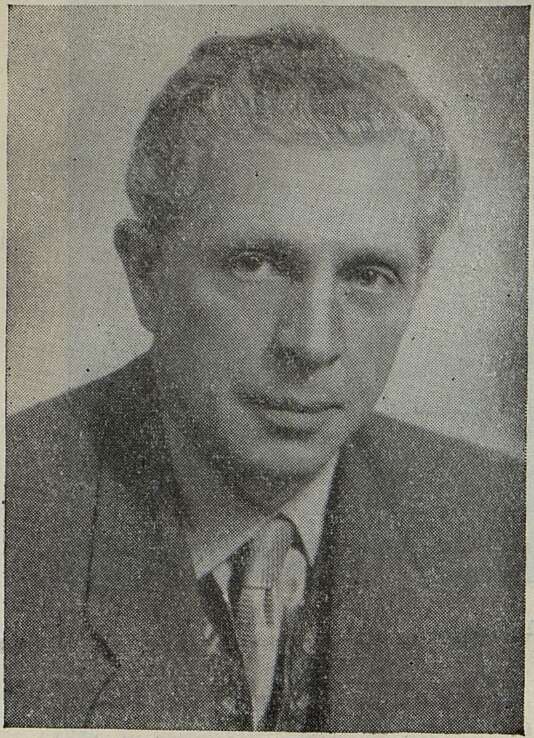
Дирижер Э. Грикуров
Нейтрален и локальный колорит — ничто не указывает, развертываются ли события в Италии, Франции или Швеции. Но, быть может, следовало поступить радикальнее и не останавливаться на полпути: освобождая оперу от цензурных запретов, вернуть действие в Швецию конца XVIII века и назвать главного героя историческим именем короля Густава III. Конкретность места и времени могла бы дать толчок фантазии режиссера и художника.
Но и в нынешнем варианте постановщик Е. Соковнин и художник А. Таубер не использовали всех возможностей, заключенных в «Бале-маскараде», пренебрегли прямыми авторскими указаниями, а в ряде случаев наделили оперу несвойственными ей сценическими несообразностями. Так, исчезла усиленно подчеркиваемая Верди тема маскарада, проходящая через все произведение и определившая его название. В сцене у гадалки один Ричард появляется в костюме простолюдина; переодевание Ренато в следующей картине носит скорее символический характер; и даже в сцене бала костюмы совсем не меняют внешности героев. В этой сцене наряд заговорщиков (ярко-красные плащи вместо голубых костюмов с алым бантом, указанных в либретто) резко выделяет врагов графа из толпы и привлекает к ним общее внимание, что вряд ли естественно.
В работе художника мало свежести, новизны, ярких находок. Даже такая своеобразная по колориту сцена, как место казни преступников со смутно белеющей в лунном свете виселицей, у подножия которой Амелия ищет волшебную траву, — решена трафаретно: с одной стороны крест, с другой — могильный камень и в отдалении — развалины.
Режиссера спектакля также следует упрекнуть в некоторой шаблонности приемов. Особенно неудачно, статично решены эпизоды, насыщенные интенсивным внутренним движением, но лишенные внешних событий, — оба любовных дуэта, ансамбль финала. Сценическое воплощение финала почти полностью повторяет драматические развязки некоторых опер, идущих в театре («Пиковая дама», «Дубровский»). Постановщик злоупотребляет симметричным расположением действующих лиц, ограниченно использует сценическую площадку — герои помещаются в центре, их полукругом охватывает хор.
Ярче поставлены те эпизоды, где больше внешнего действия. Поэтому лучшее впечатление оставляет первая картина, в которой ощущается и тщательная работа постановщика с исполнителями. Живо, хотя и не очень оригинально, решена сцена бала; балет здесь органично входит в развитие драмы.
Не всегда убеждает сценическое поведение актеров. Яркое воплощение получили преимущественно второстепенные персонажи — моряк Сильвано (И. Яшугин), заговорщики (Н. Кривуля и А. Атлантов); радует успех молодых певиц, создавших живые, запоминающиеся образы Ульрики (Р. Баринова) и Оскара (В. Любавина, Б. Каляда). Но основные образы в спектакле, по существу, не раскрыты. Однообразен облик Амелии, не изменяющийся на протяжении всех сцен, хотя музыка любовного дуэта, например, содержит и иные краски, помимо скорби и страдания. Исполнители ролей Ричарда (И. Бугаев) и Ренато (К. Лаптев) не использовали возмож-
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 3
- Песнь мира и дружбы 5
- Молодость поет 7
- Незабываемые дни 8
- Привет с далекой Кубы 8
- Хоры, ансамбли песни и пляски 10
- В добрый путь 10
- На конкурсе пианистов 12
- Большие перспективы 14
- Народные певцы 16
- Из дневника члена жюри 16
- Вопросы, волнующие народных инструменталистов 21
- Национальные оркестры 25
- О песнях и людях сибирского хора 28
- Белорусский оркестр 32
- Молодость — это смелость творческих дерзаний 35
- Наступит ли век теноров? 36
- Щедрость красок, мелодий, ритмов… 38
- Искусство китайских друзей 42
- Поют югославские студенты 44
- У истоков советской песни 46
- Симфония памяти Ленина 58
- Сергей Баласанян и его балет «Лейли и Меджнун» 63
- О музыке Георгия Свиридова 77
- От песни к симфонии 79
- Вокальный цикл С. Агабабова 83
- Молодые ленинградцы 87
- Бородин (черты стиля, приметы времени) 91
- Значение Моцарта для нашего времени 102
- Важное открытие грузинского ученого 111
- Оркестр и дирижер 115
- Эмиль Гилельс и Святослав Рихтер 116
- Форум мировой музыки 123
- «Бал-маскарад» Верди в театре имени С. М. Кирова 129
- Киргизский оперный театр 134
- «Поцелуй Чаниты» 140
- Защитникам оперетты, как она есть 144
- Воан Уильямс 149
- Венская музыкально-театральная весна 155
- Письмо из Англии 160
- «Ревизор» на оперной сцене 161
- Два новых журнала 163
- Хроника 167



