образные пласты классической музыкальной культуры. У некоторых не в меру ретивых и нетерпимых поклонников нового такое сочинение может вызвать резко критическое отношение. Но, вслушиваясь в эту выразительную музыку, нельзя не воздать должное благородству мыслей, рельефности формы, продуманности и строгой логике развития. Сильное лирическое чувство проявляется здесь внешне сдержанно. Успех этому сочинению обеспечило также совершенное владение средствами квартетного письма, виртуозное использование полифонических приемов (без чего настоящий квартет, по-моему, немыслим).
И вот другая пьеса, полярно противоположная буквально «по всем показателям», — «Концерт-буфф» Слонимского1. Когда после длинного и утомительного первого отделения, где преобладала солидная, академически приглаженная и порой — да простят меня авторы — скучноватая музыка, вдруг зазвучала дерзкая эксцентрика концерта Слонимского, это было подобно внезапному порыву свежего ветра. В яркости тембровых красок, в остроте ритмических комбинаций, в полных неожиданности поворотах тематического развития проявились неистощимые остроумие и изобретательность — спутники подлинного таланта. Нужно было слышать и видеть, с каким увлечением исполнители во главе с дирижером Э. Серовым отдались стихии этой музыки, чтобы понять бурную реакцию аудитории, до отказа заполнившей Малый зал Ленинградской филармонии. Средства, примененные здесь композитором, полностью отвечают поставленной им творческой задаче: создать жизнерадостное сочинение, самозабвенно веселое, бодрое, озорное. Как мало у нас таких сочинений! А ведь оптимизм — одно из коренных качеств советского искусства!
Итак, открытия были и здесь, но очень редко. Исполнялось много «правильных» сочинений, в которых вроде все было на месте и которые даже приятно звучали, но тут же забывались с началом следующего номера. В какой-то мере это можно сказать о Сонате для альта и фортепиано В. Богданова-Березовского и Балладе для виолончели и фортепиано О. Евлахова. Остались для меня «загадкой» и художественные достоинства Третьего квартета В. Власова — сочинения, весьма ограниченно использующего средства квартетной техники и малоиндивидуального по мыслям. «Музыка для струнных и флейты» Пригожина по стилевым истокам совершенно непохожа на его кантату и восходит скорее к творчеству П. Хиндемита. Что ж, возможно и такое «русло». Но хочется спросить автора: что хорошего находит он в бесконечных, до назойливости, повторениях одних и тех ритмов?
Наверное, надо было бы еще рассказать о тонкой, сделанной со вкусом, хотя и неровной Сонате для скрипки и фортепиано Т. Ворониной или о вокальном цикле «Песни Хиросимы» К. Молчанова, в котором, как это ни парадоксально, четкая связь с оперным стилем композитора является как его достоинством, так и недостатком1. Однако разговор о камерной музыке и так затянулся. И только на одном жанре ее хотелось бы еще задержаться — на жанре, значение которого трудно переоценить. Речь — о пьесах для фортепиано.
Каждый год консерватории Советского Союза выпускают множество пианистов, в том числе и участников и лауреатов всесоюзных и международных конкурсов. Много ли среди них энтузиастов новой музыки? Много ли таких, которые не просто играют современные сочинения как какую-то дополнительную повинность (надо же показать, что ты не чужд нового), но для которых они стали бы главной привязанностью, средоточием творческих помыслов? Пусть извинят мою неосведомленность, но пока я таких пианистов младшего поколения почти не знаю. И очень жаль, так как именно сейчас в развитии советской фортепианной музыки намечаются обнадеживающие сдвиги; достаточно назвать в этой связи цикл «Прелюдий и фуг» Щедрина. Показательно, кстати, что они, как правило, звучат только в авторском (хотя и превосходном) исполнении.
В авторской интерпретации мы услышали на «Ленинградской весне» и другое значительное фортепианное сочинение — Третью сонату Тищенко. Сразу же скажу, что она была показана в самом конце до предела насыщенной программы, когда явно сказывалась усталость аудитории. А между тем для того, чтобы вникнуть в это сочинение, требуется особая свежесть восприятия, собранность, напряженное внимание. Разобраться во всех тонкостях сложной музыки Тищенко с первого прослушивания невозможно даже профессионалам. Неудивительно, что соната стала центром «второго тура» дискуссии и вызвала самые разноречивые суждения. Но одно бесспорно — никто не остался к ней равнодушным, и уже это свидетельствует о ее значительности.
На меня соната произвела в целом сильное впечатление, хотя я и не во всем согласен с автором. Главное, что привлекает в этой музыке, — углубленная сосредоточенность, внутренняя насыщенность переживания, хочется сказать — строгость драматического напряжения. Все это обусловило большую роль полифонических средств. Однако полифония
__________
1 К творчеству этого автора я еще вернусь в одной из последующих статей.
1 Последнее сказывается в недооценке специфики камерного жанра, в преобладании крупного штриха, плакатно-декоративных приемов, вполне уместных в опере, но слишком «крупномасштабных» в «камерных условиях».
эта необычна. Показательно уже начало сонаты с характерными чередованиями отдельных «точек», «разбросанных» в звуковом пространстве. При недостаточно внимательном вслушивании оно может показаться простым набором тонов. Но «секрет» в том и заключается, чтобы ощутить взаимную связь этих тонов, смежных по регистровому положению, услышать отдельные линии многоголосого канона. Если слушателю это удастся, то его сомнения в художественной ценности музыки Тищенко отпадут сами собой.
Многие средства, будто бы впервые примененные молодым композитором, на самом деле имеют глубокие корни в советской музыкальной классике. Таковы, например, различные приемы фортепианной сонористики. Использование «ударных» звукосочетаний, обладающих, однако, определенной тембро-регистровой окраской, — совсем не новинка в нашей фортепианной литературе. Достаточно сослаться на фрагменты Шестой и Седьмой сонат Прокофьева (кстати, наиболее популярных из всех его сонат). И когда во второй части сочинения Тищенко звучит удар локтями, то я не воспринимаю этот эффект как какое-то посягательство на «основу основ». Напротив, он закономерен в данной части с характерным для нее прогрессирующим уплотнением звукового пространства.
Конечно, в адрес сонаты Тищенко можно высказать и серьезные критические замечания. Она, прежде всего, многословна. Этот недостаток усугубляется тем, что развитие опирается порой на краткие тематические построения, состоящие из пяти, трех и даже двух звуков. Лаконизм исходных построений, на мой взгляд, требует и лаконизма общей композиции. Стремление автора доводить каждую интонационную комбинацию до полной исчерпанности кажется чрезмерным. Правда, иногда подобная медлительность развертывания (между прочим, идущая от творчества Шостаковича) вносит в музыку свою прелесть. Попробуйте применить здесь «хирургическое вмешательство», сделать радикальные купюры — и она потеряет какое-то очарование. Так что достоинства и просчеты переплетены в сонате весьма тесно...
Большую помощь композиторам оказали на «Ленинградской весне» исполнители. Сказать о всех участниках фестиваля, разумеется, невозможно. Я выделю только наиболее ярких. Прежде всего — Надежду Юреневу. Удивительное и редкое сочетание превосходных вокальных данных с тонкой музыкальностью, глубоким пониманием разных стилей! Можно только позавидовать ленинградским авторам, чьи сочинени звучат в столь совершенной передаче.
Другое «благодарное воспоминание» о весне — Ю. Белокрынкин. Признаюсь, когда я знакомился с циклом Шостаковича на тексты из журнала «Крокодил», у меня возникли определенные сомнения. Конечно, подумалось мне, отчего иногда не пошутить (тем более, что юмор в музыке — редкое ка-
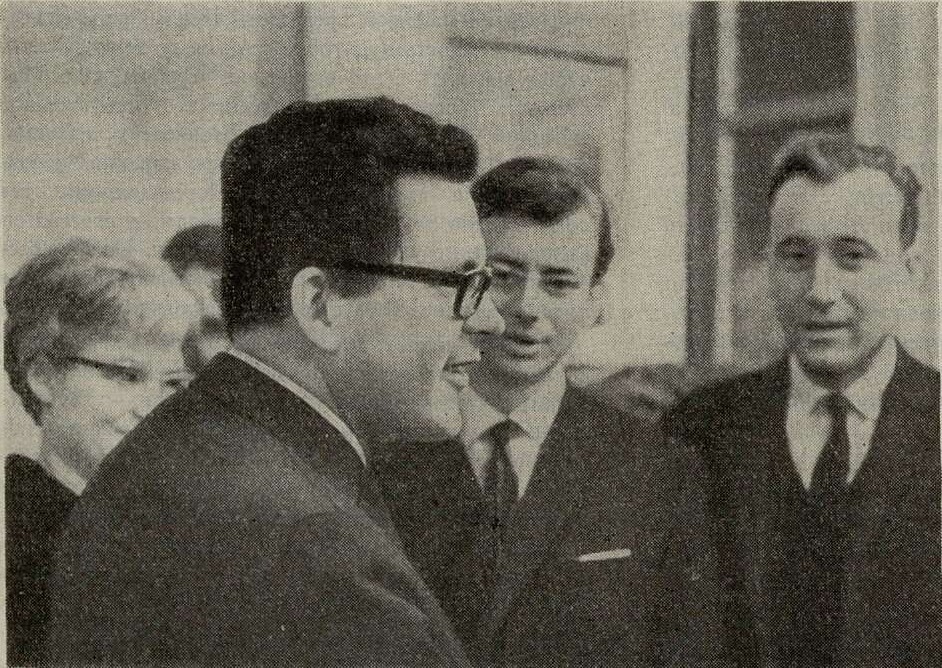
После концерта в Большом зале Ленинградской филармонии. А. Петров (Ленинград), И. Симович (Львов), Р. Щедрин (Москва)
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- Великое столетие 5
- Наш дорогой учитель 14
- Большой ученый 25
- Субъективные заметки 29
- Радость бытия 37
- О прошлом и настоящем 42
- Творец «Интернационала» 51
- Годовщина 18 марта 1871 года 59
- Реставрировать или творить? 60
- Радости и заботы 69
- Трудолюбивый коллектив 74
- Романтика наших дней 81
- Развивать камерное пение 83
- Талантливая певица 88
- Говорят члены жюри 90
- Говорят члены жюри 95
- Говорят члены жюри 97
- Говорят члены жюри 98
- На иркутской премьере 101
- Современник Дебюсси 107
- Из воспоминаний 115
- «Парад» Сати 116
- Первое прикосновение 120
- Полмиллиона друзей 129
- На родине Гайдна и Моцарта 133
- Они будят мысль 139
- Юным читателям 140
- Удачная попытка 142
- Зарубежная литература о гармонии 143
- Песни и романсы русских поэтов 149
- К 100-летию Московской консерватории 150
- Новое в новом сезоне 151
- 250 вводов 154
- В год юбилея 155
- К 70-летию А. Г. Новикова 155
- Его стихия — симфонизм 156
- По большому счету 156
- Замечательный педагог 157
- Из записной книжки композитора 157
- Форум эстонских музыкантов 158
- Эстония — РСФСР 159
- Нам сообщают из Армении 159
- Песни над Антарктикой 160
- Дружбе крепнуть! 160
- Молодость балета 162
- Новые фильмы 162
- Основная сила — молодежь 163
- Письма в редакцию 164
- В мастерской художника 164
- Памяти ушедших. Г. Г. Галынин 165
- Памяти ушедших. С. П. Преображенская 165



