«Ленинградская весна»
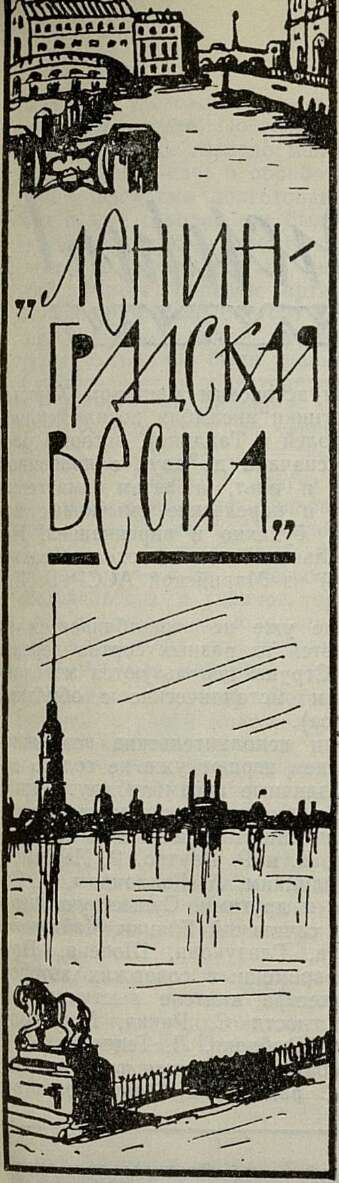
Второй раз весна приходит на берега Невы вместе с музыкальным празднеством. Последнюю декаду апреля занял второй фестиваль «Ленинградская музыкальная весна». Редакция попросила поделиться своими впечатлениями о празднике члена правления Московского отделения Союза композиторов РСФСР Г. Поляновского.
— Этот фестиваль, — сказал он, первоначально был задуман как смотр достижений ленинградских композиторов. В нынешнем году рамки его расширились, включив творчество москвичей. Прозвучали новые сочинения Д. Шостаковича, Г. Свиридова, Н. Пейко, А. Эшпая, Р. Щедрина (состоялся его авторский вечер). В город Ленина приехали Государственный симфонический оркестр Союза ССР во главе с Е. Светлановым, квартет им. Прокофьева, М. Ростропович, Н. Исакова и другие исполнители.
Характерной чертой нынешней «Весны» был широкий показ творчества ленинградской молодежи. Исполнялись произведения уже известных, хотя и молодых, авторов, например, А. Петрова, С. Слонимского, Л. Пригожина, В. Веселова, Б. Тищенко и опусы студентов консерватории (им был отведен специальный концерт). Мне довелось послушать очень много разной музыки — в концертах и в собственноручном авторском исполнении. Обо всех сочинениях невозможно даже упомянуть в коротком интервью. Поэтому я только назову те, что вызвали наибольший интерес. «Поэма для струнных, органа, труб, двух роялей и ударных» Петрова, посвященная памяти жертв ленинградской блокады, глубоко волнует слушателей героическими образами незабываемого военного прошлого. Остроумный, тонкий замысел и мастерство оркестрового письма отличают Концерт-буфф Слонимского. Порадовали хоровые новинки. Отмечу прежде всего четыре хора совсем молодого Л. Балая на слова Л. Куклина — «Звездные острова», фрагмент кантаты Слонимского «Голос из хора» (на стихи Блока), отрывок из кантаты «Слово о полку Игореве» Пригожина и «Романтическую кантату» Веселова. Последний, как мне кажется, быстро движется вперед в своем творческом развитии. В частности, им недавно закончена оригинальная опера «Мы земля» по роману И. Ефремова «Туманность Андромеды». Студенты-композиторы также любят и умеют писать для голоса.
Чрезвычайно интересными авторами показали себя А. Кнайфель (6 лирических эпиграмм «Памяти Маршака») и В. Нескородов (вокальная пьеса «Обвинение» на стихи К. Андради). В концерте детской музыки, к сожалению, кроме песен В. Гаврилина, В. Витлина и Д. Прицкера, подлинных удач было мало.
Из камерных произведений, помимо Концерта-буфф Слонимского, большое внимание публики вызвали «Баллада для виолончели и фортепиано» О. Евлахова, альтовая соната В. Богданова-Березовского. А вот Соната для скрипки и фортепиано Т. Ворониной огорчила угловатостью, «некрасивостью» музыки, доведенной до предела. Чрезмерная усложненность языка Третьей фортепианной сонаты молодого Тищенко также сильно затрудняет ее восприятие широкой аудиторией. Любопытная по замыслу Симфония Г. Уствольской написана на стихи Дж. Родари. Однако мне показалось, что автору тут не удалось добиться подлинно образной контрастности: сфера чувств очень мрачна, почти зловеща. Все это так не похоже на светлый тонус даже самых печальных историй итальянского поэта! Напрасно, с моей точки зрения, включили в программу «Весны» слабый балет Н. Симонян «Жемчужина», постановка которого совсем не украсила сцену Театра им. Кирова. В связи с этим мне хочется пожелать нашим ленинградским друзьям, в целом прекрасно организовавшим свой праздник, постараться избегать перегрузки его репертуара.
В программу следующего фестиваля предполагается включить произведения композиторов других союзных республик. Думается, что надо приветствовать такое расширение географии «Весны». Однако оно накладывает особую ответственность на ленинградцев, особенно, при отборе музыки.
Кантеле — жить!
Страна «Калевалы», озерная Карелия, издавна славилась рунами и песнями, рунопевцами и сказителями. У колыбели новорожденного, на свадебных торжествах и похоронах, на деревенских посиделках неизменно звучало кантеле — старинный музыкальный щипковый инструмент. Внешне он напоминал небольшое треугольное корытце, выдолбленное из одного куска дерева — пня (по карельски пень — канто). Почти во всю его длину по горизонтали натягивались струны — пять, восемь, двенадцать, по усмотрению мастера-исполнителя. Инструмент не окрашивали, а попросту коптили в деревенской бане на жаровне, пока он не приобретал цвет, нужный мастеру.
Известный советский этнограф и фольклорист Виктор Пантелеймонович Гудков, заинтересовавшись мелодическими возможностями кантеле, отдал много сил его усовершенствованию и пропаганде. В начале 30-х годов вместе с краснодеревщиком Евдокимом Клюхиным он создал инструмент с диапазоном в две октавы и хроматическим строем. На нем можно было исполнять не только народные мелодии, но и более сложные произведения.
Гудков организовал в Петрозаводске первые любительские кружки, где обучал молодежь игре на кантеле. Один из таких кружков в 1936 году стал основой государственного ансамбля «Кантеле». Выступления нового коллектива быстро стали популярными в Карелии.
Шло время, и двухоктавное кантеле перестало удовлетворять исполнителей. Инструмент дважды был усовершенствован эстонским мастером Харальдом Кристалом (участники ансамбля познакомились с ним во время гастролей в Таллине), который расширил его диапазон сначала до двух с половиной октав, создав приму и альт, а затем смастерил трехоктавное кантеле и карельские смычковые народные инструменты: ёухикко и вирсиканнел. Несколько экспериментальных кантеле сделал также мастер русских гуслей из Марийской АССР Б. Кашутин.
Современное кантеле уже не выдалбливается из одного куска, а делается из разных сортов дерева: березы, сосны, бука. Струны используются металлические (у примы) и металлические с обмоткой (у альта и кантеле-баса).
Неизмеримо выросли исполнительские возможности инструмента. На нем играют уже не только соло, но составляют различные ансамбли (дуэт, трио, квартет и оркестр) . За прошедшие тридцать лет накопился репертуар, созданный карельскими компознторами: В. Гудковым, К. и Р. Раутио, Р. Пергаментом, Н. Леви, Л. Теплицким, А. Голландом, Г. Синисало, Ю. Зарицким и другими. Существуют переложения для кантеле сочинений Глинки, Чайковского, Грига, Сибелиуса, Глазунова, Шопена, Прокофьева, а также современных советских авторов. В сопровождении оркестра кантеле выступали известные певцы, в частности С. Рикка, М. Кубли. Е. Рапп, Е. Аппен, С. Рыбалко, Л. Теппонен.
В этом году ансамблю исполняется тридцать лет. Дата, казалось бы, радостная. Однако есть все
Приезжайте в Луганск!
Долгое время маршруты гастрольных поездок композиторов из союзных республик упорно обходили Луганск. Приезжали только музыканты из «близлежащей округи» — киевляне В. Гомоляка, К. Данькевич, К. Доминчен, Л. Колодуб, Г. Майборода. В камерных концертах выступали И. Драго, П. Майборода, Ю. Рожавская, харьковчанин Г. Финаровскнй.
И вот в сезоне 1965/1966 года «лед тронулся». Луганская филармония в сотрудничестве с отделом пропаганды Музфонда СССР начала ежемесячно проводить авторские концерты композиторов страны. Причем на очень широкой аудитории. Каждый из гостей выступал не только в филармоническом зале, но и перед телезрителями всей области. Первым приехал Н. Богословский. Местный оркестр под его управлением исполнил симфоническую повесть «Василий Теркин», сюиту из балета «Королевство кривых зеркал», скрипичные миниатюры (солистка — Л. Бруштейн).
А. Баланчивадзе дирижировал своей Второй симфонией и Третьим фортепианным концертом (солировали юные луганские пианистки Л. Поэль и Г. Литвинская). В его концертах прозвучали также симфоническая картина «Море» из балета «Страницы жизни», вальс «Тбилисское море». Композитор рассказал слушателям о новых достижениях своих коллег — музыкантов Грузии.
А первое отделение вечера И. Шамо продлилось добрых полтора часа. По просьбе публики автор сыграл ряд своих фортепианных пьес (в том числе Прелюдии, пьесы из циклов «Песни друзей», «Картины русских художников»). В программу концерта входили также фрагменты из Симфонии, «Молдавская поэма-рапсодия» и «Фестивальная сюита» (дирижер — Ю. Олесов).
Особенно радостной для Луганского симфонического оркестра и городских любителей музыки была встреча с Николаем Петровичем Раковым. Высококультурный музыкант, композитор показал себя и отличным волевым дирижером. Давно уже не трудился наш оркестр столь вдохновенно. Дело заключалось не только в интересе к новому репертуару. Главное — коллектив стосковался по осмысленной целеустремленной репетиционной работе. Результаты не замедлили сказаться. Оркестр словно подменили: появилось настоящее pianossimo, мягкое forte; более четким стал ансамбль. Публика тепло принимала в исполнении коллектива и Вторую
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 8
- Создавать высокое искусство 9
- За идейную чистоту и подлинную художественность 12
- «...Работать сообща...» 14
- «...Максимум требовательности - минимум обид...» 16
- «...Музыка - не развлечение...» 17
- «...Кто виноват...» 17
- «...Нужна теория...» 19
- «...Пропаганда - дело серьезное...» 20
- «...Ориентируясь на высокие идейные, нравственные идеалы...» 21
- От редакции 24
- С верой в Белую птицу 28
- Гордость советской музыки 35
- Удивительное воздействие 38
- Томас Манн о кризисе буржуазной культуры (окончание) 43
- Путь к совершенству 57
- Прокофьев в Новосибирске 67
- Новый «Щелкунчик» 76
- Римляне на ленинградской сцене 86
- Беседа с Шаляпиным 92
- Гармоничное искусство 95
- Возвращение на эстраду 97
- Песни социалистических стран 98
- Дуэт пианистов 99
- Из дневника концертной жизни 101
- Стих и ритм народных песен 104
- Национальный художник 111
- Чародей скрипки 118
- Неделя в Лондоне 121
- Слушая Жоливе 127
- Встреча с композитором 133
- Лед тронулся 137
- Письмо и редакцию 145
- Коротко о книгах 148
- Нотография 152
- Хроника 155



