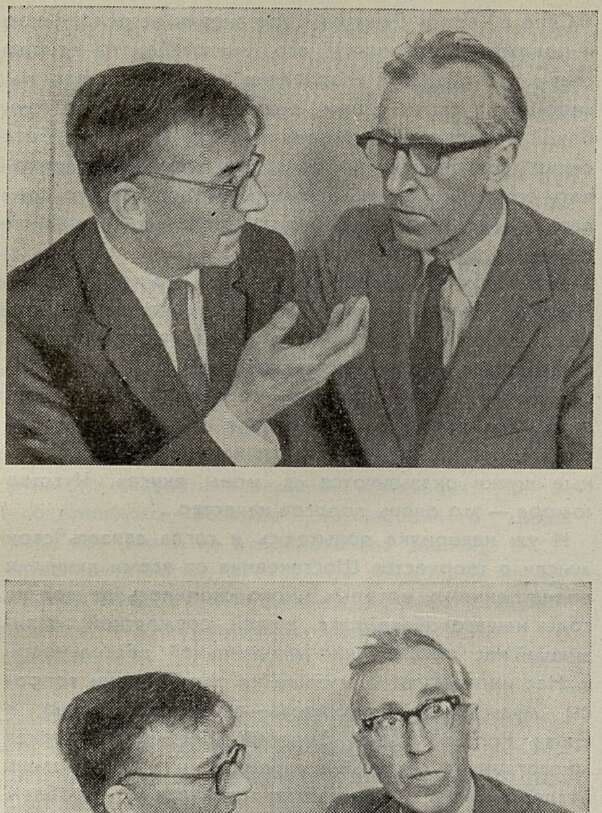

ми не сравнится никакое варварство древних или средних веков!
И еще один из гимнов человеку, которыми так богато творчество Шостаковича, — Десять поэм для хора, посвященных событиям первой русской революции. По силе и глубине, с какими композитор воплотил здесь идейное величие этих событий и атмосферу, в которой они разворачивались, — я не знаю во всей музыке ничего равного, за исключением им же сочиненной спустя несколько лет Одиннадцатой симфонии. Интонационный язык, да и общий характер этих монументальных произведений формировался Шостаковичем еще в тридцатые годы — в партитурах кинофильмов о Максиме и особенно, конечно, в финале «Катерины Измайловой». Но трудно отказаться от желания увидеть первый шаг, приведший к ним, в не известных нам «Гимне Свободе» и «Траурном марше памяти жертв революции», сочиненных композитором в одиннадцатилетнем возрасте. И если бы это предположение подтвердилось, как убедительно пополнило бы оно список редких исторических примеров такого родарядом с двумя сонатами Бетховена — фа-минорной, сочиненной им тоже в одиннадцать лет, и «Патетической», где уже зрелый мастер спустя почтидвадцать лет великолепно развил свой детский, но не по-детски смелый замысел.
Защищая своим творчеством большие гуманистические идеалы, Шостакович одновременно защищает и идеалы большого реалистического искусства. Его творчество своей идейной значительностью, национальной определенностью, верой в неисчерпаемость народной и классической музыки, мелодическим своим богатством решительно противостоит всем и всяческим авангардистским течениям современности.
«Без большой темы нет настоящего искусства», — утверждает он каждым своим новым крупным сочинением и после нескольких глубоко содержательных квартетов берется за работу над оперой «Тихий Дон»...
«Вне опоры на родную почву тоже нет настоящего искусства», — чем дальше, тем убежденнее и нагляднее говорит его музыка, поражая слушателей новым поворотом русской интонации в драматической фреске «Казнь Степана Разина»...
«Народная и классическая музыка создали такую богатую и универсальную систему музыкального мышления, которая и сегодня дает безграничные возможности для подлинного новаторства», — на весь мир провозглашает его творчество, в котором самое смелое новаторство никогда не приводило к отрыву от живых традиций великих мастеров прошлого.
«Нет большего заблуждения, чем думать, что музыка может обойтись без мелодики, заменив ее обрывками умозрительно конструируемых линий», — с огромной силой убедительности доказывает справедливость этой мысли становящийся все более щедрым мелодический дар Шостаковича...
Вместе со всеми большими композиторами-новаторами XX века, в том числе своими соотечественниками и современниками — Прокофьевым, Мясковским, Хачатуряном, он решительно отверг идею якобы исчерпанности тональной системы творчества и отказался примкнуть к атоналистам, провозгласившим наступление новой эры в музыкальном искусстве, но так и не доказавшим миру за полвека своего существования действительную плодотворность умозрительно созданной ими новой системы творчества.
Шостакович мог бы и не написать ни одной статьи против модернизма («Это мертвое искусство, не давшее никаких живых ростков», — писал он однажды), ни разу не выступить в защиту реализма с трибуны: его творчество само по себе великолепно воюет против всего искусственного и догматического, против всего бессодержательного и антигуманистического, против всего, что чуждо подлинному, большому реалистическому искусству. Он — смелый новатор, он и законный наследник великих музыкантов прошлого. Он — гордость нашего советского искусства, хотя и принадлежит уже всему передовому человечеству.
Свое 60-летие Дмитрий Шостакович встречает, как и положено художнику его масштаба, на гребне славы и в расцвете творческих сил. Заканчивая эти «несколько слов» о нем, я испытываю чувство глубокой неудовлетворенности от сознания своего бессилия хотя бы эскизно, хотя бы частично обрисовать его личность так, как мне хотелось бы это сделать, представить ее перед читателем такой, какой она мне самому представляется...
Может быть, когда-нибудь мне это и удастся. И тогда я напишу о многом, чего сейчас не удалось даже коснуться. В частности, о том, как счастливо уживается в его искусстве глубокая мысль со способностью весело пошутить, сострить, побаловаться даже. Это последнее свойство я очень ценю в музыке Шостаковича, даже если не все его музыкальные шутки оказываются «в моем вкусе». Чувство юмора — это очень дорогое качество...
И уж наверняка попытаюсь я тогда связать свои мысли о творчестве Шостаковича со всеми личными впечатлениями, которых много скопилось за долгие годы нашего знакомства, нашей совместной, сблизившей нас общественно-музыкальной деятельности. «...Нас интересуют в музыке не только одни вопросы музыкальной техники», — вновь вспоминаю я слова Роллана. Ведь Дмитрий Шостакович — такая многогранная и сложная личность, что одним лишь исследованием музыкально-технических проблем его творчества личность эту не охватишь, не объяснишь и не нарисуешь...
В. Майский
Удивительное воздействие
Вряд ли можно найти какое-нибудь еще современное музыкальное произведение, вызвавшее столь бурный общественный отклик, как Седьмая симфония Шостаковича. Музыка ее затронула самые животрепещущие проблемы, ответила чаяниям людей всего мира в их борьбе против зла и насилия. Симфония привлекла огромное внимание: ей посвящено множество статей и аналитических работ.
Наибольший интерес для анализа представляет грандиозная первая часть с ее новаторским решением сонатной драматургии. Достаточно просмотреть сборник теоретических статей «Черты стиля Д. Шостаковича»1, чтобы убедиться, какое серьезное значение придают авторы изучению этой части. Отмечая необычность и новизну данного сонатного allegro, исследователи подчеркивают особую роль «эпизода нашествия». Вторжением его вызвана, в частности, уникальная реприза, которая «по степени переосмысления содержания экспозиции стоит на первом месте среди всех симфоний Шостаковича»2. Однако, внимание исследователей сосредоточивается в основном лишь на общем композиционном анализе этой части симфонии. Только М. Бер в
_________
В. Майский в 1965 году окончил Ленинградскую консерваторию как теоретик и органист. Был зачислен в сентябре 1965 года в аспирантуру в класс профессора Ю. Н. Тюлнна.
1 М., «Советский композитор», 1962.
2 Указанный сб., стр. 147.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 8
- Создавать высокое искусство 9
- За идейную чистоту и подлинную художественность 12
- «...Работать сообща...» 14
- «...Максимум требовательности - минимум обид...» 16
- «...Музыка - не развлечение...» 17
- «...Кто виноват...» 17
- «...Нужна теория...» 19
- «...Пропаганда - дело серьезное...» 20
- «...Ориентируясь на высокие идейные, нравственные идеалы...» 21
- От редакции 24
- С верой в Белую птицу 28
- Гордость советской музыки 35
- Удивительное воздействие 38
- Томас Манн о кризисе буржуазной культуры (окончание) 43
- Путь к совершенству 57
- Прокофьев в Новосибирске 67
- Новый «Щелкунчик» 76
- Римляне на ленинградской сцене 86
- Беседа с Шаляпиным 92
- Гармоничное искусство 95
- Возвращение на эстраду 97
- Песни социалистических стран 98
- Дуэт пианистов 99
- Из дневника концертной жизни 101
- Стих и ритм народных песен 104
- Национальный художник 111
- Чародей скрипки 118
- Неделя в Лондоне 121
- Слушая Жоливе 127
- Встреча с композитором 133
- Лед тронулся 137
- Письмо и редакцию 145
- Коротко о книгах 148
- Нотография 152
- Хроника 155



