временной отсчет (перечень разных событий, по времени близких нам), то, соподчиняясь этому отсчету, музыка «освобождается» от отображения революционных процессов, преобразующих жизнь. Думается, что главным, существенным «подтекстом» сборников, посвященных современности, может, вернее, должна быть тема «Музыка и революция», позволяющая и обязывающая раскрыть главные черты современности в аспекте ее революционного преобразования, и музыкальное творчество в свете идей революции, постоянно движущих подлинно жизненной, исторически перспективной музыкой.
Именно на понимании современности как производного от революции может крепко держаться каркас всех научных построений и дискуссий в сборниках «Музыка и современность». Накрените понятие современности в сторону, так приятную нашим идеологическим противникам — мир, объятый страхом истребления, апокалиптические видения последнего земного часа, смерть как полное и всеобъемлющее раскрытие личности и тому подобное, и эта экзистенциалистская сущность современности немедля найдет свое отражение в музыке (и уже находит его) у зарубежных и наших отечественных авангардистов. При этом защитники «современной техники» в музыке будут уверять нас в объективной достоверности изображаемого ими мира. Они будут ссылаться на «трагедийность» как главную примету века, на логико-математические основы современного искусства, на закономерности рационалистического расчленения музыки на микроэлементы, на пагубность классических традиций. К сожалению, отголосков этих споров, ведущихся достаточно горячо в жизни, на страницах рецензируемого сборника, мы не ощущаем. Если авторов в данном случае смущает только публицистическая острота проблемы, не находящей якобы своего «научного» решения, то вряд ли они правы, так как раскрытие образного содержания музыки и его идейно-эстетического существа нельзя подменить аналитическими схемами и математическими формулами.
Но стоит выпрямить понятие современности, придав ему должный политико-социальный смысл, как в новом свете вырисуются проблемы музыки, призванной «по мандату долга» очищать души людей, готовить их для революционных свершений, проникнуться глубочайшими началами революции. Я представляю себе один из будущих выпусков сборника «Музыка и современность», где читатель сможет найти статьи, открывающие широкие перспективы реалистическому творчеству на опыте прогрессивной музыки мира и особенно русской музыки; статьи, убедительно доказывающие идейную ущербность произведений современного авангардизма; статьи, посвященные творчеству Шёнберга и Веберна и расскрывающие их заблуждения, перспективам развития музыки Востока, творческому опыту стран социализма.
Чем активнее станет проблематика сборников, чем теснее она будет связана с жизнью в ее самых значительных социальных проявлениях, тем больше пользы окажут они развитию прогрессивной музыкальной культуры. Особенно важное значение имело бы теоретическое обобщение творческого опыта советской и зарубежной музыки в ее наиболее ярких и принципиальных проявлениях с тем, чтобы показать, какие богатейшие и неисчерпаемые возможности таит в себе реалистическое направление. В этом отношении радуют статьи рецензируемого сборника, посвященные творчеству Прокофьева, Шостаковича, Орфа, Бартока.
Сборники «Музыка и современность» завоевали уже интерес и доверие читателей. Будем надеяться, что последующие выпуски принесут еще большую пользу музыке, призванной действенно участвовать в нашей современности.
В. Виноградов
Родина смычковых инструментов
Наше время вносит существенные поправки в отстоявшиеся веками представления о мировом музыкально-историческом процессе. Все яснее вырисовывается созидательная роль в этом процессе народов Азии, Африки и Латинской Америки. Соответственно отживает свой век реакционная по существу концепция, согласно которой якобы только европейцы обеспечили музыкальный прогресс.
На международном музыкальном конгрессе, посвященном проблеме «Восток — Запад», мне довелось слышать убедительные доказательства того, что многоголосие возникло в Европе как раз под воздействием музыкальных традиций Азии, где своеобразные формы полифонии, в частности, бурдон, существовали задолго до того, как они стали бытовать в Европе. Влияния Востока обнаруживаются даже в грегорианском хорале.
Однако до сих пор еще недооценивается роль наших среднеазиатских народов в общем процессе развития музыкального искусства. Даже в наиболее фундаментальных трудах зарубежных музыковедов многие их достижения или обходятся молчанием или приписываются арабам и персам. Происходит это часто из-за недостаточной осведомленности зарубежных ученых. Ведь до сих пор многие из них не имеют представления о появившихся в советское время работах, посвященных музыке Средней Азии и Казахстана.
В этой связи тем большее значение приобретает недавно вышедшая в ГДР книга немецкого музыковеда доктора Вернера Бахмана о происхождении смычковых инструментов, игры на них.
_________
Werner Bachmann. Die Anfänge des Streichinstrumentenspiels. Leipzig, VEB Breitkopf und Härtel, 1964, SS. 1–207.
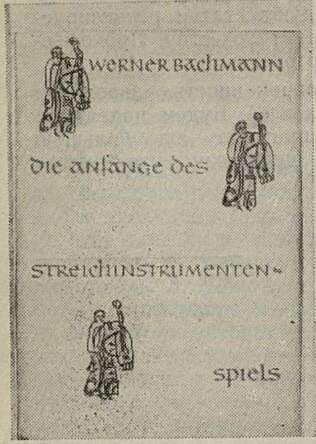
Автор рассматривает проблемы происхождения, эволюции, границы между смычковыми и щипковыми инструментами, устанавливает взаимосвязь их с ранними стадиями многоголосия, с общим стилем музыки. В поле зрения исследователя — общественные и музыкальные функции инструментов, исполнители, репертуар и т. д.
Такой широкий подход к избранной теме обусловлен исходными позициями автора, который убежден в том, что содержание музыкального искусства формируется под влиянием общественных условий. Соответственно меняются постепенно конструкция, тембры, характер звучания инструментов, способы игры на них. Совершенствование инструментария в свою очередь воздействует на общий музыкальный прогресс. Под этим углом зрения рассматриваются в книге различные формы музицирования (в церкви, при дворах феодалов, в народной среде и т. д.).
По мнению автора, многие исследователи начальных стадий смычкового исполнительства ограничивались рассмотрением лишь музыкального искусства Европы, что приводило их к ошибочным, односторонним заключениям. В результате они приходили к ошибочным выводам, утверждая, вольно или невольно, что другие народы не способны самостоятельно создавать культурные ценности. В некоторых работах, впрочем, декларировалась мысль о влиянии Востока на Запад, но в подтверждение этого не приводилось никаких аргументов.
В труде Бахмана рассматриваются неевропейские предшественники смычковых инструментов и их европейские «родственники» раннего средневековья. В связи с этим автор обращается не только к многочисленным западноевропейским трудам. Он обнаруживает большую осведомленность в нашей отечественной литературе начиная с древних времен и привлекает также арабские, византийские, китайские, индийские, турецкие и другие неевропейские источники, в том числе исторический, археологический и иные материалы, относящиеся к истории культуры и музыки народов Средней Азии.
Бахман отрицает, как несостоятельные, теории о североевропейском и индийском происхождении смычковых инструментов. Он устанавливает, что самые ранние свидетельства о применении их встречаются в Средней Азии, а именно в музыкальном трактате аль Фараби (870–950), где музыкальные инструменты объединяются по способу звукоизвлечения. В отдельную группу включаются такие инструменты, которые издают звук благодаря трению о струны. Более обстоятельно смычковые инструменты описаны в музыкальных трактатах Ибн Сины и других теоретиков раннего восточного средневековья.
Приходя к выводу, что исходный пункт развития игры на смычковых инструментах, очевидно, надо искать в Средней Азии — Хорезме, Согдианской Трансоксании и Хорасане, Бахман обосновывает это утверждение солидными аргументами. В экономическом, культурном и музыкальном отношении население этих районов еще в период до арабского вторжения достигло высокого уровня развития. Арабские завоеватели, как об этом свидетельствуют современники, уничтожали не только культурные ценности, но и многих выдающихся представителей науки и искусства Средней Азии. И все же здесь и впоследующее время процесс музыкального развития характеризовался автохтонностью. «У них прекрасные мелодии», — пишет географ того времени аль Макдизи. В китайских летописях описываются массовые празднества, на которых звучали музыка и пение. Музыканты Хорезма славились на огромной периферии Востока. Их можно было встретить во многих странах, начиная от Китая (куда также вывозились музыкальные инструменты из Средней Азии) и до Византии. Некоторые данные позволяют прийти к заключению, что тогда как у арабов музыкальные инструменты выполняли главным образом функции аккомпанемента к пению, в Средней Азии уже в период раннего средневековья существовала развитая инструментальная музыка.
Раннее появление и распространение смычковых инструментов в Средней Азии и на всем Востоке стимулировалось характерными особенностями самой музыки этих стран: ее импровизационным складом, тонко орнаментированной мелодией, дробной звуковой шкалой, то есть теми ее чертами, для воплощения которых наиболее приспособлены эти инструменты.
Возникновение смычковых инструментов — это длительный процесс освоения нового способа звукоизвлечения (посредством трения о струны палочкой или пучком волос) на щипковых инструментах (как известно, последние исторически предшествовали смычковым инструментам). Именно такой путь эволюции прошли рабаб и кобуз. Еще и сегодня мы встречаем в Узбекистане и Таджикистане инструменты, на которых играют как плектором, так и смычком (например, сетер).
Культура игры на смычковых инструментах начала проникать на европейский континент через арабов (в южной Испании) и Византию. Ранние европейские источники о применении смычковых обнаружены в северокаталонских миниатюрах, датированных первой половиной XI столетия. Около 1100 года эти инструменты встречаются уже в Северной Испании, Южной Франции, Италии, Южной Англии и в других европейских странах. В этот же период они проникают и на Дальний Восток (Китай).
Усвоение новой культуры смычковой игры начиналось не всегда и не везде с заимствования самих инструментов. Обычно — так было и в Европе — воспринимался главным образом новый способ звукоизвлечения — смычком. Старинные западные источники наглядно доказывают это: первые европейские смычковые инструменты по своей форме, конструкции, настройке соответствовали раннесредневековым щипковым.
Смычковые инструменты принесли вместе с собой в Европу и ранние формы двухголосия: бурдон, квартово-квинтовые параллелизмы, которые из инструментальной музыки перешли в вокальную. Действительно, всякий, кто близко знает народную инструментальную музыку Средней Азии, не может не обнаружить знакомые ему приемы в образцах европейского раннесредневекового вокального двух-
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 4
- У стены коммунаров 5
- На уровень задач XXIII съезда КПСС 7
- Баллада о товарище 11
- Певец, артист, художник 14
- Молодежь ищет, сомневается, находит 19
- Ритм и форма 28
- Облик благородного человека 34
- Большой театр — сегодня 38
- Новые пути 42
- И вновь о праве на поиск 48
- Хорошее единство 53
- Встреча с музыкой 57
- Радости и разочарования 59
- Наш Муса 63
- От студии к театру 67
- Народная песня и культура певца 71
- Впечатления и предложения 73
- Три из шести 75
- О песнях Дебюсси 79
- Из воспоминаний 86
- Цельное, неповторимое впечатление 98
- Пропагандисты камерного пения 104
- На литовской земле 108
- У композиторов Северного Кавказа 112
- Активнее использовать резервы 120
- Звание артиста обязывает 126
- Торжество национального гения 127
- Музыка и куклы 133
- Народная полифония 139
- Знамение времени 140
- Музыка и современность 143
- Родина смычковых инструментов 145
- Коротко о книгах 147
- Нотография 148
- Хроника 149



