Не то ли — или близкое тому — чувство испытывал Владимир Ильич и в Куинз-Холле, всем сердцем наслаждаясь звучанием музыки Чайковского?
И не может ли быть отнесено и к тем минутам проницательное наблюдение Горького, которым он завершает рассказ об отношении Ленина к Толстому:
«Я нередко подмечал в нем черту гордости Россией, русскими, русским искусством. Иногда эта черта казалась мне •странно чуждой Ленину и даже наивной, но потом я научился слышать в ней отзвук глубоко скрытой, радостной любви к рабочему народу».
*
«Мы с Надей здоровы и живем по-старому, потихоньку и помаленьку», — писал Владимир Ильич, рассказывая матери о посещении «хорошего концерта». Достаточно, однако, перечитать хотя бы несколько из уцелевших его писем «искровцам», относящихся к тому же периоду, чтобы понять истинный масштаб его работы в эту пору.
В посланном по почте письме матери вопросы носят, естественно, вполне житейский характер: «Неужели у вас все еще упорные холода?.. Бывают ли у вас в Самаре хорошие концерты?» Шифрованное, шедшее окольными путями в ту же Самару письмо Г. М. Кржижановскому, где последний возглавлял бюро «искровцев», испещрено вопросами иного рода. Читаешь его — и ясно представляешь себе неустанную тревогу Ленина об успехе начатого дела, боль от сознания, что он физически оторван от Родины, ощущаешь его напряженные раздумья о партии, воссоздаваемой заново, о людях, которые могли бы осуществить задуманное на просторах России.
Вот какая была эта жизнь, «по-старому, потихоньку и помаленьку»! И быть может, именно потому, что она была такой, стало особенно впечатляющим воздействие концерта в Куинз-Холле. И тем живительней, внутренне наполненней оказалась в те часы для Ленина вдохновенная патетика мысли и чувства Чайковского.
*
На этом, вероятно, можно было б поставить точку. И все же рассказ наш не кончен.
...В ноябре 1942 года в военную Москву со всех концов земли шли приветствия от лучших представителей мировой культуры, поздравлявших наш народ с двадцатипятилетием Советской власти, восхищавшихся стойкостью и героизмом советских людей, желавших скорейшей победы. Одним из первых пришло приветствие из Лондона от старейшины английских дирижеров — Генри Вуда, напечатанное в день годовщины рядом со словами благодарного привета Альберта Эйнштейна, Теодора Драйзера, Эптона Синклера, Лиона Фейхтвангера и других.
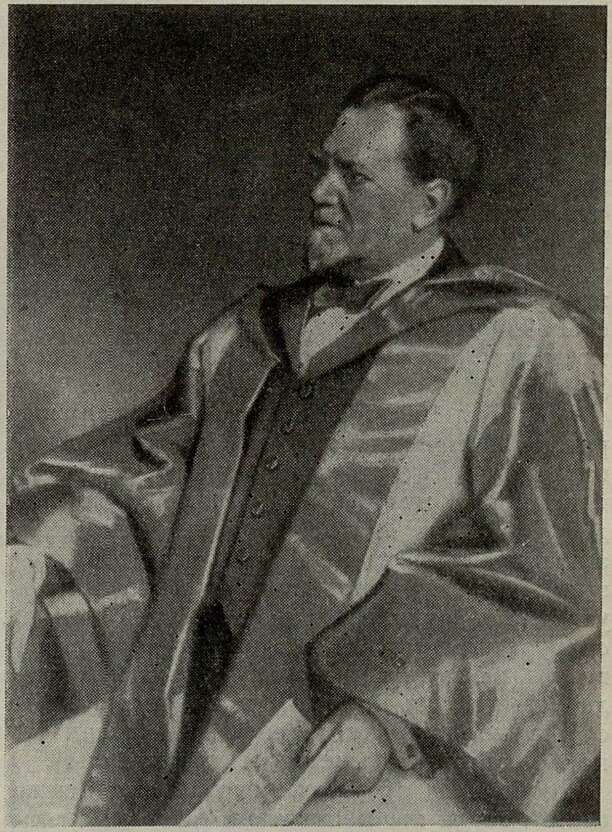
Генри Вуд
«Как музыкант, — писал Вуд, — я радуюсь возможности заявить, что ни одна страна не играла большей роли в развитии музыки, чем Россия в прошлом и настоящем. Поэтому мы полны к ней восхищения и признательности. Я не политик, но моим девизом всегда было достижение наивысшего блага для наибольшего количества
людей, и если судить по стойкости наших союзников в борьбе за дело свободы, то Советский Союз полностью разрешил эту проблему...»1
За этими прямыми и честными словами стояла большая жизнь музыканта, связанного крепкой, верной дружбой с русским народом, русской культурой и сумевшего еще на заре Советской власти перенести эту любовь на молодую советскую культуру.
Начиная с первых дней своей жизни в музыке, Вуд стал в Англии «крестным отцом» многих произведений не только Чайковского, о чем уже шла речь, но и Мусоргского, Римского-Корсакова, Глазунова, Скрябина, Рахманинова, а после октября 1917 года — и Мясковского, Прокофьева, Глиэра, молодого Шостаковича (Первая симфония и первый фортепианный концерт), Кабалевского, Хачатуряна... 23-летним юношей «открывал» он для англичан «Евгения Онегина». Прошло полвека, и Вуд с таким же юношеским энтузиазмом первым из зарубежных музыкантов дирижировал только что написанной Д. Шостаковичем Седьмой симфонией2. Для премьеры Вуд избрал знаменательный день.
«22 июня 1942 года я имел честь дирижировать «Ленинградской симфонией» вашего знаменитого Шостаковича. Это первое исполнение симфонии передавалось по радио на весь мир... Публика и пресса с энтузиазмом встретили ее. Само собой разумеется, я чрезвычайно рад, что принял участие в этом важном событии. Близкое сотрудничество с вами в разгар гигантской войны, в которой мы сражаемся бок о бок, дает мне, как человеку и музыканту, необычайное удовлетворение...», — писал он после концерта советским музыкантам3.
Сообщение об успехе этого исполнения было тогда же напечатано во всех центральных газетах:
«В середине июня партитура симфонии была доставлена на самолете в Лондон. Оркестр Лондонской филармонии немедленно приступил к репетициям под руководством знаменитого дирижера Генри Вуда. 22 июня 1942 года в Лондоне состоялось первое исполнение «Ленинградской симфонии»... На концерте, собравшем, по выражению английской прессы, рекордную аудиторию и транслировавшемся по радио, присутствовал советский посол Майский, и овации после исполнения симфонии превратились в овации в честь советского народа, вступившего в этот день во второй год войны с гитлеровской Германией.
На следующий день в английской прессе появились рецензии, давшие высокую оценку новому произведению Шостаковича, а 24 июня Британская радиовещательная компания организовала передачу отрывков из всех четырех частей симфонии...»4
Спустя два десятилетия после этого концерта мы беседуем с академиком Иваном Михайловичем Майским и его супругой Агнией Александровной Майской — лондонским корреспондентом Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, разыскавшей в Англии множество ценнейших документов Маркса и Энгельса и немало сделавшей в ту пору для развития англо-советских культурных связей. Оба они давние любители музыки. При их непосредственном содействии и была доставлена Вуду партитура Седьмой симфонии Шостаковича.
— Это был действительно праздник русской, советской музыки, и не только музыки, — говорят они. — В зал Альберт-Холла словно ворвался ветер времени. Недаром зарубежные критики писали летом 1942 года о Ленинградской (под таким названием исполнялась она за границей) симфонии; «Эта музыка выражает мощь Советской России, так, как никогда не сможет сделать слово...» И, конечно же, огромная заслуга наряду с покоряющей силой самой музыки Шостаковича принадлежала Вуду. Превосходный музыкант! Коренастый, плотный, с крупными чертами лица, похожий по первому впечатлению скорее на многоопытного инженера,
_________
1 «Правда» от 7 ноября 1942 года.
2 Следует исправить неточность в нашей литературе о Д. Шостаковиче, где первым зарубежным исполнителем этой симфонии неизменно именуется А. Тосканини. Однако его исполнение Седьмой симфонии (Нью-Йорк, 19 июля 1942 года) было премьерой для США. Впервые же за рубежом симфония прозвучала в Лондоне под управлением Вуда 22 июня 1942 года.
3 Цит. по публикации Г. Шнеерсона: «Советская музыка». Второй сборник статей». М., Музгиз, 1944, стр. 87.
4 «Седьмая симфония Д. Шостаковича в Англии и США». Газета «Литература и искусство» от 25 июля 1942 года.
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 6
- «Слушайте Ленина!» 7
- Патетическая симфония 9
- Из архивов Н. К. Крупской 20
- Победа Стеньки Разина 24
- Поэтичные страницы 28
- Грузинские впечатления 32
- Опера сегодня 37
- В прениях выступили 46
- Размышления после премьеры 55
- Встречи и размышления 58
- Широта устремлений 63
- Из воспоминаний 67
- Чудесный дар 69
- Ефрему Цимбалисту — 75! 71
- Первая виолончель Франции 73
- В концертных залах 76
- Спустя полвека 86
- В поисках нового языка 92
- Реплика В. Брянцевой 95
- Без единого руководства 97
- Письмо из Тувы 99
- Мировоззрение и эстетика 101
- Воспитание музыкой 114
- По системе Кодая 117
- Софийские встречи 126
- На музыкальной орбите 135
- Труд большого ученого 142
- «Близнецы» 145
- Нотография 149
- Новые грамзаписи 150
- Хроника 151



