минуты ждет, что Миша присоединится к друзьям, вот два разбитных парня пристают к ней, вот все идут на митинг (струнная группа хорошо имитирует шаги), жанровые сценки сменяются лирическим прощальным терцетом, и, наконец шумная тревожная музыка убегающего поезда.
А как выражень музыкой узловые лирические моменты оперы (сцены главных героев — Миши и Наташи)?
Знаменательно что и здесь композитор достигает удач по преимуществу на «песенном пути». Именно такая удача, на наш взгляд, лейтмотив любви Наташи и Миши, впервые появляющийся в их дуэте из первой картины.
Есть у него одна особенность: кажется, что словно только заглянули мы на минуту в душу людей, бросили «беглый взгляд» и отступили. И в данном случае это, может быть, хорошо: надо ли пристально разглядывать, подробно описывать очень юную еще любовь десятиклассников?
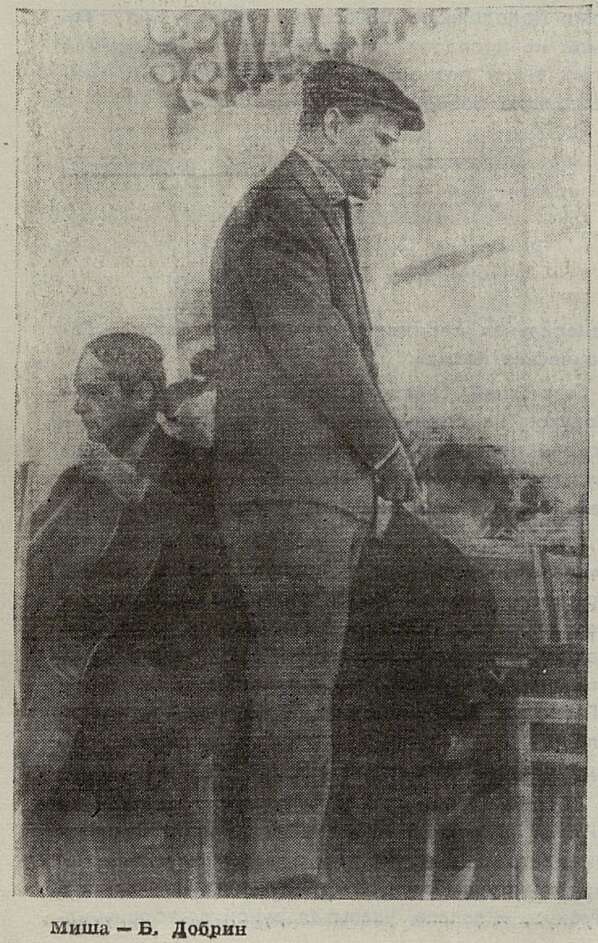
Миша — Б. Добрин
Кстати, по этой же, вероятно, причине вторжение лейтмотива во многие сцены, где действуют Наташа или Миша, кажется назойливым. Психологически оправдано его кульминационное звучание только после грубого объяснения «обольстителя»-прораба с Наташей. Потерпев фиаско, раздраженный Андрей театрально удаляется. Девушка остается одна — с особой силой охватывает ее тоска по любимому...
Несколько прямолинейное, даже иллюстративное развитие присуще не только лейтмотиву любви. Пожалуй, в еще большей степени то же можно сказать о лейтмотиве дружбы («Шагая путем крутым»). Чуть что — он уже «готов к услугам», заботливо комментируя зрителю происходящее. Скажем, в симфоническом антракте «Пурга» 1 это еще понятно: идет великое испытание товарищества, честности, «чувства локтя» почти на пороге, смерти. Но так ли обязательны интонации песни о дружбе во многих других эпизодах? Песня настоящая, хорошая. Ее сипу, ее выразительность надо беречь, а не расточать при каждом сценически удобном случае.
Обратим внимание композитора и на другое «излишество» в его опере — на частые репризы медленных тягучих мелодий (песня Наташи, песня у костра) или же на непосредственное соседство недейственных песен (опять же в сцене у костра и в следующей за ней сцене на Ангаре).
И если уж говорить о некотором преобладании в опере медленных темпов, некотором ритмическом однообразии, то, вероятно происходит это потому, что композитор, опираясь на современные бытовые песенные интонации, гораздо меньше внимания уделил современным бытовым танцевальным ритмам.
И все-таки повторим: песня, песенное — лучшее в опере. В этом отношении музыковед С. Виноградова, произнесшая вступительное слово перед исполнением «Дорог дальних», безусловно, права.
Хуже, гораздо хуже, когда перед нами типично оперные номера, скажем ария Миши из первой картины, или матери из второй, или рассказ Строителя из четвертой, или ария-объяснение Андрея. Куда девается сразу вся интонационная непосредственность музыкального языка, весь непринужденный тон высказывания! Вторая сцена, в частности (Наташа вдвоем с матерью в ночь перед отъездом), кажется, наименее удачная в опере. Героиня отчаивается («Миша не едет с
_________
1 Включающем также и тревожно трансформированную песню о Сибири.
нами!»), мать утешает ее. Что делать композитору в этой наивно представленной ситуации?!
*
Опера. Огромный труд, поиски, бессонные ночи... Первое проигрывание друзьям, и споры, и волнение в день премьеры — хотя бы концертной. И отчаянное опасение, что половину не расслышат. Надо сказать, что по радио впечатление от почти тех же исполнителей было лучшим. В Колонном зале оркестр под управлением Е. Акулова (которому нельзя отказать в увлеченности) заглушал не только чтеца В. Пешкина — Алешку, но порой и певцов — искреннюю, но несколько скованную и однообразную М. Мирошникову (Наташа), сценически выразительного С. Яковенко (Андрей), флегматичного Б. Добрина (Миша), старательно оживленную Л. Исаеву (Машенька). И рядом — яркие актерские находки (роль пьянчуги Федора в остроумном, живом исполнении Г. Абрамова!).
Представляя себе, как трудно, подчас невозможно посмотреть на свое создание со стороны, заранее принимая упреки в том, что анализ «Дорог» в нашей статье не развернут и многое, видимо, останется недоказанным, мы говорим в заключение.
Благородный замысел. Хорошая идея. Но не опера. Бездейственность драматургии. Да, бездейственность, при всем выразительном контрапункте музыки со стихотворным текстом, несмотря на «кинематографичность» действия.
Вероятно, нам возразят, что на настоящей сцене «Дороги дальние» произведут иное, более сильное впечатление. Да, конечно, там будет всамделишная пурга, очень похожий на настоящий железнодорожный вагон и прямо на авансцене — гордые таежные пихты. А может быть наоборот: мы увидим скупое «современное» оформление, где не будет ни тайги, ни поезда, а только некий условный цветной овал во всю сцену. Но ведь в самой сути сочинения ничего не изменится.
Необходимо что-то существенно менять в партитуре. Что именно — это должен решить композитор, если захочет прислушаться к нашим замечаниям.
А может быть, ему сейчас важнее начать новую работу, новую оперу. Тоже современную, тоже молодежную. Во всяком случае, хочется верить: не пропадет для него бесследно первый опыт, и он познает на большом оперном пути настоящие победы.
В. Красовская
«Героическая поэма»
В январе в Москве проходил всесоюзный семинар балетмейстеров. Встречи, доклады, споры. Ознакомление со сценариями и музыкой. Просмотр балетных кинофильмов, отечественных и зарубежных, включая любительские, когда немую запись танца прерывают лишь пояснения профессионалов. Кроме того, спектакли вечерние и утренние, в Большом театре, во Дворце съездов, в Театре им. К. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко. Накануне отъезда генеральная репетиция одноактного балета «Героическая поэма».
Старейший балетмейстер Федор Васильевич Лопухов на семинаре подчеркнул, что танец — основа балетного спектакля. Живя по законам музыки, в единстве с нею, он главный выразитель содержания, замысла, идеи.
Тем, кто думает, что это не так, надо посмотреть «Героическую поэму». Сюжет балета по-своему сложен. Но он свободно «читается» и без либретто. Стоило бы только изменить название, примелькавшееся во всех видах искусства, на то, какое предполагалось сначала — «Геологи». Полемическая перекличка с эстетикой спектаклей недавнего прошлого осталась бы при всяком названии.
В самом деле, давно ли геологи из балета «Гаянэ» в полной походной форме выслушивали пантомимный рассказ о залежах руды? Напряженно улыбаясь, смотрели они, как пастух в бурнусе и папахе, указывая рукой в сторону на-
-
Содержание
-
Увеличить
-
Как книга
-
Как текст
-
Сетка
Содержание
- Содержание 6
- «Разлив» 7
- Партия и искусство 19
- «Кружевница Настя» 27
- «Дороги дальние» 34
- «Героическая поэма» 38
- «Куба — любовь моя» 42
- «Шакунтала» 47
- Симфоническая опера 51
- Радости и огорчения 55
- Рассказать о Советском Урале! 58
- Мысли о советском балете 61
- Вместе с композитором 67
- Преодолеть заколдованный круг 72
- Несколько слов о педагогах 74
- Ближе к современности 75
- Частные меры не помогут 79
- Шекспир и музыка 81
- Это звучало в шекспировском театре 85
- Еще раз о «Ромео» 89
- Поет Шапошников 92
- Письмо из Лондона 94
- «Сон в летнюю ночь» 96
- О моем великом соотечественнике 97
- Из отечественной музыкальной шекспирианы 98
- Евгения Мравина 100
- Из воспоминаний 106
- Страничка мемуаров 107
- «Игрок» С. Прокофьева 108
- Гилельс играет в Свердловске 110
- Комитасовцы 111
- Вокальные вечера 112
- Наш друг 115
- Чешский квартет 116
- Альтисты и арфисты 116
- Там, где учился Ленин 118
- Берлинский дневник 124
- «История музыки в иллюстрациях» 128
- Любимый народом 129
- «Катерина Измайлова» в Лондоне 130
- Африканская симфония 132
- «Говорящие барабаны» 139
- В секретариате Союза композиторов СССР: Одна цель, один путь 142
- Страницы живой истории 146
- Опера и время 148
- Наши юбиляры. В. И. Музалевский и Н. И. Платонов 151
- Хроника 153



